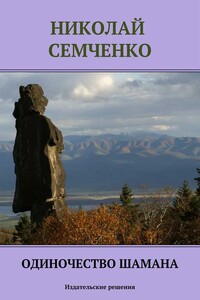Синий гусь | страница 27
— Врешь? — Коляня расцвел в улыбке. — Забожись!
— Ну вот — «забожись»! Комсомольский атеист, а бога призываешь в помощники.
— Это так говорится, конечно, пережиток, — он был уже совсем весел, и я видел, что Коляня поверил мне. — Давай порубаем яичницу. Ты же тоже тут в холостяках, не жрал небось. А вообще-то ты женатик?
— Да. У меня в Москве жена. Она балерина.
Коляня насторожился:
— Может, потому тебя Гражина не пустила?
Мне не хотелось отнимать у Коляни его радость:
— Да нет, мы об этом и не говорили. Просто, как ты сам сказал: Гражина пустит, кого полюбит. Значит, не полюбила.
Называя Зюку этим именем, которым звал ее Коляня, я как бы говорил о другом человеке, отдавая его моему собеседнику. Я говорил не о Зюке, стоявшей за дверью и тут же открывшей ее, едва я постучал.
Коляня дунул на свечку, пламя склонило голову набок и бесшумно умерло. Он поставил сковородку на сложенный вчетверо газетный лист, лежавший на столе, и, отойдя к полке у стены, стал шарить по ее доскам. Вернулся Коляня к столу с одинокой алюминиевой ложкой и отломленным от буханки куском хлеба, который разломил еще пополам.
— На ложку, — сказал он, — одна. Неохота хозяйку беспокоить, я ножиком. Валяй, рубай.
Яичница пахла свечным салом. Конечно, свечка не могла передать кушанью своего запаха, просто, наверное, сковородка была плохо отмыта, но вкус был свечкин. Коляня, однако, ел с удовольствием.
— Так ты решил, про что будешь снимать кино? — спросил Коляня.
Мне очень захотелось рассказать ему про Кузина Ивана Поликарповича. Про то, что наш шеф, бывший неудавшийся кинооператор, всегда завидовал моим успехам, хотя, когда нужно было отчитываться перед начальством или общественностью, я становился козырной картой, просто «джокером» в его колоде. Это последнее обстоятельство не помешало, однако, Кузину выступить на собрании студии и заявить, что «Палада не умеет разглядеть героику в наших обычных буднях. Хотя, конечно, стремление такого крупного мастера быть на передовой линии общегосударственных свершений само по себе достойно подражания, и картины Палады составляют славную летопись великих дел, гордость нашего документального кинематографа».
Я не верил кузинской гордости за мою работу, как не верил и искренности его слов о великих делах, ибо пафос, с которым он это вещал, был всегда на какой-то высшей отметке душевной фиоритуры, куда человек добирается, может, однажды в жизни, а уж никак не ежедневно.
Я же действительно любил масштабность темы, стараясь рассказать камерой о самом значительном, и если, как я сейчас понимаю, мои картины не касались многих сложных проблем жизни — это было вовсе не от следования кузинскому запрету на «смакование теневых сторон жизни», а от веры в то, что сложности эти преходящи. В фильмах моих — и военных и послевоенных — действовали подлинно героические люди, и я всей душой старался показать зрителю, что героизм не бывает легким.