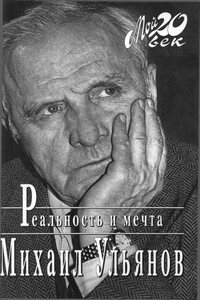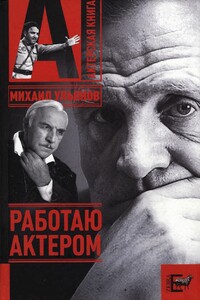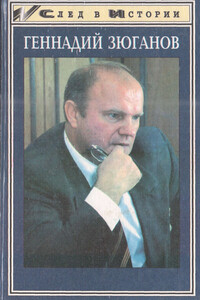Возвращаясь к самому себе | страница 9
Что самое страшное в таких, как Горлов, начальниках — любых: военных или штатских, больших или маленьких? Убеждение в собственной непогрешимости, в своем необсуждаемом праве распоряжаться, не слушая, не вслушиваясь даже в то, что думают другие, тем более если эти другие «нижестоящие». А следовательно, он глух к малейшей критике, он упоен собой, своей властью, своим правом судить и миловать, он влюблен в себя и потому даже собственный каприз уважает и ценит и склонен принимать за мудрость.
К великому моему сожалению, я много их видел, вижу и до сих пор, этих горловых, в самых разных сферах деятельности. И это закономерно и естественно было для той нашей жизни: природа верховного непогрешимого вождя всех народов, как солнце в капле воды, отражалась в любой крохотной росинке — в самовосприятии начальника любого масштаба. Известная присказка «Я начальник — ты дурак» с точностью математической формулы отражает это явление — горловщину.
И вот когда мы начали репетировать — а мне досталась роль Горлова, — я для себя определил этот образ как сатирический. Мне было интересно поднять этот характер до символа. Вместе с режиссером Евгением Симоновым мы старались сгустить, сконцентрировать это явление до сатиры едкой, беспощадной. Это был уже не драматический образ, совсем нет! Через тридцать лет после войны военная по содержанию пьеса служила злобе текущего дня, его гражданским проблемам.
Горловщина… Горлов… Манера поведения этого человека, его лексика, его походка, его ощущение себя в мире — все подавалось в преувеличенном виде, в чем-то было доведено до абсурда. Мой Горлов плохо говорил, потому что никогда не учился хорошей речи, не считал это нужным. Зачем ему — раз он и так большой начальник?! Он и ходил этаким барином, зная, что все перед ним расступятся и отведут ему лучшее место. Он садится не на стул, а на трон. Он безапелляционен до полной дурости.
В спектакле есть сцена, где он танцует «цыганочку» — в постановке сорок второго года ее нет, а в нашей постановке танец Горлова убедительно демонстрирует, что для этого человека все — в прошлом. Горлов танцует лихо, с присядкой, но присядку-то уже не может сделать не опираясь на стулья. Силы уже не те, легкость — не та, одолела грузность… Он-то помнит, какой он был звонкий да громкий, и не возьмет в толк, что сегодня-то он, как его присядка, одна показуха. И внутренне он пуст. А он не осознает этого, не понимает, куда его несет. Он одно затвердил: не должно ничего происходить без его ведома, без его участия.