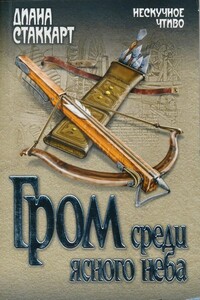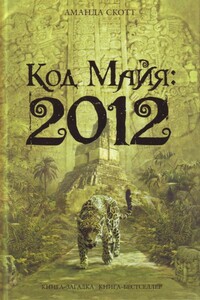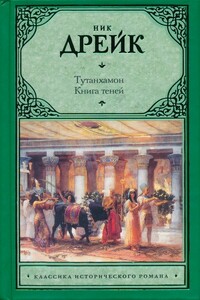Можайский-3: Саевич и другие | страница 69
— Не спешите, Григорий Александрович: самое интересное — впереди!
— Но как он мог…
— Да не спешите же! — Инихов, призывая Саевича не делать поспешных выводов, даже погрозил ему сигарой. — Мы с Михаилом Фроловичем были удивлены не меньше вашего. Как так? Узнал не элегантного господина, а оборванца? Что за чудеса? И почему, узнав именно этого человека, он не выдал его напрямую? Наши теории трещали по швам, однако самая важная скрепа — самая, если позволите так сказать, жирная и приметная — конструкцию продолжала держать. И скрепой этой был неоспоримый факт: кого бы ни узнал генерал и какими бы мотивами он ни руководствовался, в «Аквариуме» узнали совсем другого человека и именно того, другого, не пожелали выдавать! Но генерал и по этой скрепе нанес неожиданный удар:
«Понимаете, — каясь, заявил он, — я попал в чрезвычайно щекотливое положение. У меня — внуки! Они — целиком на моем попечении, и, что уж скрывать, в сиротках этих я души не чаю! А тут…»
— Да что за черт? Причем тут ваши внуки? — мы с Михаилом Фроловичем вообще уже перестали что-либо понимать!
«Оборванец этот… ну, тот, которого я узнал… — страшный человек! Из бывших вольнонаемных[45]. Он служил в моей части и уже тогда зарекомендовал себя с самой ужасной стороны…»
— Генерала, — несмотря на явно противоречивший этому смысл произносимых им слов, во взгляде Инихова продолжала искриться лукавая усмешка, — буквально трясло. Во всяком случае, создавалось именно такое впечатление: руки пожилого солдата ходили ходуном, губы дрожали.
«Видите ли, — начал он объясняться, — на первый взгляд, с этим человеком не происходило ничего необычного, и уж тем более невозможно прямо сказать, что он был замешан в чем-то незаконном. И все же, сослуживцы его как огня боялись! И не тем страхом, который — бывает и такое — больше является признаком уважения, нежели чего-то еще, а смесью ужаса и омерзения. Не успел он и полугода в части пробыть, как уже поползли самые невероятные слухи! А чем дальше, тем более слухи множились, и, в конце концов, уже лично я встал перед необходимостью провести расследование. Можете мне поверить, — генерал даже перекрестился, — к делу я отнесся со всей серьезностью и расследование провел со всем тщанием. Но куда там! Несмотря на то, что вина этого человека в самых чудовищных, бесчеловечных даже преступлениях казалась очевидной, подступиться к нему не было никакой возможности: так хорошо заметались им всякие следы того, что на суде могло бы явиться надлежащими доказательствами. Одним из самых вопиющих таких преступлений стал — ни много, ни мало — вооруженный грабеж, отягощенный бессмысленным в своей жестокости убийством…»