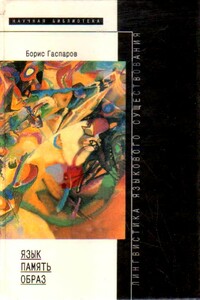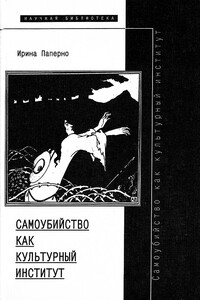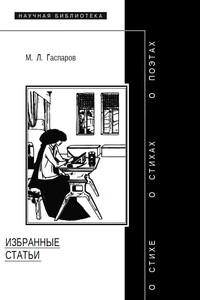«Валгаллы белое вино…» | страница 59
В последней строфе «Зверинца» геральдическая символика, равно как и аллегорически-басенная составляющая, отступает на задний план. Юмористическая интонация не соответствует торжественной картине будущего — воззванию к миру больше соответствуют более монументальные образы и символы: Волга (ст. 43) олицетворяет Россию, Рейн (ст. 44) — Германию[86]. Когда наступит мир, Волга «станет полноводней» (ст. 43), а Рейн — «светлей» (ст. 44). Косвенно поэт намекает на темность «рейнской струи». Если страны-участницы войны последуют мандельштамовскому призыву, Германия избавится от ненужной разрушительной тяжести и просветлеет[87]. Бессмысленной деструктивной жестокости войны Мандельштам противопоставляет творческое начало («буйство танца» — ст. 47). Истинное величие Германии и России возможно только в том случае, если обе культуры «почтят» друг друга. Картина примирения вызывает в памяти читателя образ Золотого века и возвращает его к идиллии первых строф стихотворения.
«Зверинец» содержит параллели к текстам, уже разобранным нами в рамках немецкой темы. С «Одой Бетховену» ее связывает не только общность жанра, но и конкретные лексико-семантические переклички. Так «буйство танца», которым «почтят» друг друга бывшие враги (ст. 47), отсылает к «буйному хмелю» Бетховена, в котором он приглашает мир на танец (ст. 22–24 «Оды Бетховену»). И если в стихотворении «Бах» «буйство» (трактиров) было окрашено негативно и стояло в оппозиции ликованию Баха, подчеркивая диссонирующий разрыв между миром и культурой, то, возродившись в «дионисийском» контексте творческого упоения Бетховена, буйство преображается из агрессивно-хаотического элемента в творческий и миротворческий.
Возвращаясь к цветаевскому импульсу возникновения «Зверинца», хотелось бы отметить знаменательные различия между посланиями Мандельштама и Цветаевой. Мандельштам обращается ко всем воюющим странам, Цветаева — к Германии (косвенно взывая к совести и милости ее врагов). Цветаевский аргумент в пользу мира: человек человеку — брат: «Я знаю правду! Все прежние правды — прочь! / Не надо людям с людьми на земле бороться» (Цветаева 1994: I, 245). Мандельштам конкретизирует это родство, говоря о едином происхождении европейских народов. И если Цветаева в своем послании «Германии» апеллирует к вкладу Германии в мировую культуру (Гете, Кант) и подчеркивает свою личную связь с этой страной[88], то Мандельштам, напротив, избегая общих мест и личных мотивов, ищет объективное, а не субъективное обоснование искомого мира.