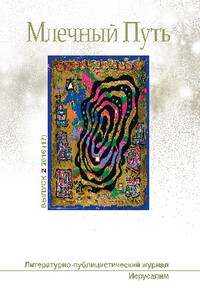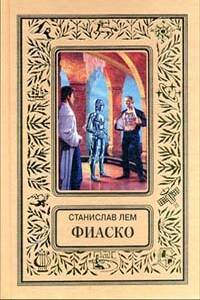Млечный Путь, 2013 № 02 (5) | страница 57
Из управления он вышел около двенадцати часов дня, жалкий и виноватый, и, мечтая немного развеяться, направился к архиву окольной дорогой, мимо вокзала. Ослепленный полуденным солнцем город моргал аляповатыми окнами. Улицы-черновики, улицы-эскизы... не до конца проявленные, топорные, туманно-золотые. Приторно лоснились умытые вчерашним ливнем фасады домов. По левой стороне шоссе бесконечной серебряной лентой текли велосипеды. По правой, чихая выхлопной копотью, изредка проносились машины, в основном служебные. Эдвард шагал и думал, что минут какие-нибудь полвека, и автомобиль станет анахронизмом, как и компьютеры и книги по истории. Прошлое и будущее стягивались в кольцо – плотное, точно удавка, в которой билось, задыхаясь, неприкаянное и бессильное настоящее. Билась его, Эдварда Кристофердина, жизнь.
На привокзальной площади толпился народ с чемоданами и рюкзаками, молодежь со спортивными сумками через плечо, мамаши с детьми. Бронзовому фонарщику кто-то повязал вокруг горла яркий трехцветный шарф. Четырехлетний карапуз встал на цыпочки у питьевого фонтанчика, пытаясь губами дотянуться до струи. Его кепка съехала набекрень, чумазые пятки вывалились из тесных сандалий.
«Хози хочет пить», – вспомнил Эдвард и сглотнул вязкую слюну.
«Как это было? – спросил он себя. – Как все было тогда, почти два века назад?»
С вокзала на фронт уходили эшелоны с такими, как он, молодыми парнями – и любой солдат гордился тем же, что и Хайниц. Во что превратилась их гордость на передовой? В окопах, в грязи, под огнем?
Обрывки прочитанных документов, словно кадры бесконечного черно-белого кинофильма, путались в голове, мелькали в глазах, жужжали в уши. Он думал о других поездах, о тех, что везли людей в эти ужасные лагеря... Тогда вагоны были не как сейчас. Без теплых кресел и удобных маленьких столиков, без автоматов, продающих фанту, кофе или газеты. Они, по сути дела, мало чем отличались от душного сарая, где неизвестно сколько часов – а может, и дней – томились Анечка и Ребекка. Там сидели вповалку на голом полу, плакали, замерзали, сходили с ума.
«Прекрасно, ты узнал, – сказал ему Хайниц. – И что, стал счастливее?» Но Эдвард не хотел узнавать – и не хочет. Он мог бы не пойти в архив, а вернуться домой, закрыть трюмо, занавесить окна. Вот только прошлое не прогнать. Рано или поздно оно вынырнет из омута зеркальных витрин, восстанет из стеклянного блеска воды в фонтане, из солнечного блика, скользнувшего по краю тарелки, из глубины чьих-нибудь глаз. Даже небо как огромное зеркало, и в нем, подобно гигантскому мозаичному панно, отражается земля. Забвение – не панацея, а ловушка, темнота, в которой бродят призраки.