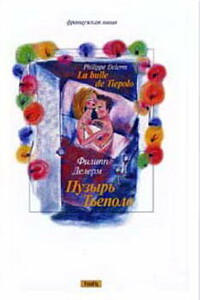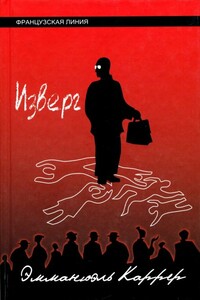Горовиц и мой папа | страница 21
Папа, получивший французское гражданство в 1927 году, не служил в армии, а потому был мобилизован в сентябре 1939-го рядовым. Отца ничуть не огорчало отсутствие галунов и нашивок, основным преимуществом которого стало освобождение от самых неприятных обязанностей. Его направили на базу Серкотт поблизости от Орлеана, где испытывались артиллерийские снаряды, и он благодаря своему таланту пианиста занимался там солдатским клубом. Серкотт, смерткотт — неплохое укрытие!
Этот период был отмечен не только отъездом папы, но и торжественным возвращением бабушки — не хватало только фанфар. Война смешала все карты, и кошмарная Анастасия воспользовалась исключительными обстоятельствами, чтобы покинуть ментонское убежище, где она изнывала от жары и умирала со скуки в окружении своих дряхлых и бездельных генералов. Разумеется, она представляла это стратегическое отступление грандиозным самопожертвованием, утверждая, будто долг в ней возобладал над собственными интересами. Сметя одним движением руки все свои вчерашние нарекания, бабушка безо всякого урона для своей чести вернулась домой и сообщила, что не могла поступить иначе, потому как необходимо поддерживать в войсках высокий боевой дух. На полный мир с мамой рассчитывать было нечего, но нечто вроде перемирия для внутреннего пользования Анастасия установила, — естественно, на выгодных лишь ей одной условиях. Бабушка одарила нас своим присутствием, а мы — теперь вечные бабушкины должники — обязаны были забыть навсегда, что первый выстрел прозвучал с ее стороны.
Мама держала нейтралитет, не желая подливать масла в огонь. В то время, когда столько французов обдумывало, не придется ли пойти на сделку с немецкими захватчиками, нам приходилось учиться мирной жизни с оккупанткой, вломившейся в дом 37 по улице Гамбетта, махонький трехцветный домишко (синие ставни, белые стены, красная крыша) на окраине Шату: мы туда только что переехали. Драконша снова заняла свое место, полная решимости царствовать в нашей вселенной и не признавая ни малейшей возможности оспаривать ее соизволения.
— У тебя нет никаких данных, можешь не стараться!
Эту фразу, навсегда запечатлевшуюся в моей памяти, бабушка впервые бросила мне в лицо в тот вечер, когда — как часто бывало после ухода отца в армию — я попытался заглушить тоску, подобравшись к его святилищу, осторожно трогая слоновую кость клавиш, но даже и не стараясь извлечь какие-то звуки. Мне казалось важным только одно: поставить пальцы на еще теплые отпечатки папиных, и пианино я использовал на манер инструмента не музыкального, но необходимого для занятий спиритизмом. Вот только ответил мне не папа, этим озаботилась его мать, наградив в придачу к обвинению такой затрещиной между ушей, что я чуть было не стал инвалидом на всю жизнь.