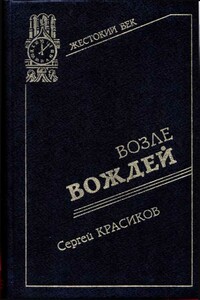Короткая книга о Константине Сомове | страница 5
Но странным образом это осознание собственной конечности не стреножило ничьего энтузиазма — ибо любой энтузиазм в данном кругу был лишен оттенков мироустроительной тотальности. Организаторам журнала и инициаторам выставочных затей не было нужды заглядывать слишком далеко вперед — они исполняли очень конкретную и вовсе не претендующую на вселенский масштаб программу внедрения принципов «правильного стиля» во все виды искусства, от театра до книжной графики и прикладного дизайна. Не открыть новую сверхреальность стояла задача (вспомним профетические амбиции последующего авангарда!), но лишь «здесь и сейчас» утвердить новый вкус — уйти от литературоцентризма, от идеологичности и провинциальности в сторону европеизма, целостности культурного процесса и формальной означенности изобразительных высказываний.
Озабоченность формой в практике «Мира искусства» — это, прежде всего, озабоченность границей, отделяющей искусство от жизни, контурами выделенной в потоке бытия зоны «прекрасного». Монотонная социальная действительность вызвала эстетическое отторжение именно своей бесформенностью, отсутствием опосредующей рамки стиля; напротив, отдаленные историко-культурые образы — образы уже состоявшегося, самодостаточного и замкнутого на собственные реалии существования — порождали импульс освоить чужие «игрушки», поняв закон их психологического и пространственного соединения. Отсюда «ретроспективные мечтания», «царские охоты», видения старинного Петербурга и «галантные жанры» — каждый выбирал себе эпоху по вкусу и вживался в нее в соответствии с собственной задачей.
Задачи, конечно, не совпадали: кто был заворожен красотой, кто ушиблен «скурильностью», кто искал положительный идеал и утраченный идеал художественный, кого преследовало видение вечной пошлости за костюмированным фасадом. Но тех и других изначальная сосредоточенность на форме, на проблематике попадания в стиль и стилевого перевода обрекала на стилизаторские усилия. Постигнутое и адаптированное «чужое» сводилось к острому ракурсу, оборачивалось декорацией, расползалось орнаментом — изобретательно оформленной поверхностью. В сущности, игровая процедура сама собой перетекала в еще один вариант культуртрегерства, тоже в метафорическом смысле означающего освоение и заполнение поверхностей: таков опосредованный путь возрождения красоты и ее «закона».
Подобная детерминированность заданными условиями игры никоим образом не была бедой, учитывая результаты мирискуснических «выходов в историю», — однако как раз для Сомова это сделалось еще одним источником скрытой драмы. Обреченность поверхности — стилистическому узору — стала поводом для переживаний несбывшегося: не отягощенной культурными фильтрами натуры, открытого пространства, свободного чувства — того, что на ином уровне как-то связывалось с недовольством собственным характером («тяжелым, нудным, мрачным») и потребностью измениться («я хотел бы быть веселым, легким, чтобы все было море по колено, влюбчивым и сорвиголовой… Только таким людям весело, интересно и не страшно жить!»).