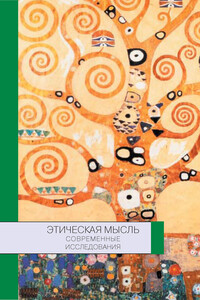Великие пророки и мыслители. Нравственные учения от Моисея до наших дней | страница 21
Обратимся теперь ко второй части парадокса: «к дурному влекусь», т. е. избираю худшее. Получается, что человек выбирает дурное помимо своей сознательной воли, что он знает, в чем заключается правильный моральный выбор, но не делает этого, и, следовательно, его собственные моральные суждения не имеют для него обязывающего смысла. Но можно ли их в таком случает считать моральными? Логично предположить, что в описанной ситуации человек ошибочно полагает, будто он владеет моральной истиной, — видит и одобряет лучшее, благое. На самом деле нельзя иметь моральные суждения, не будучи моральным. Показателем действительной моральности человека являются его поступки, готовность испытать на себе благотворную силу того, что он считает моральным. По плодам их узнаете их — гласит одна из евангельских истин. Словом, достоверность моральных суждений, как и всяких других, проверяется практикой. Можно было бы предположить, что здесь нет парадоксального расхождения мотивов и поступков, так как благое намерение не является действительным нравственным мотивом, поскольку оно не переходит в поступок. Действительные же нравственные мотивы находятся не на кончике языка того, кто совершает поступок, они заключены в нравственном качестве самого поступка. А в том, что намерения могут быть ошибочными, что они не совпадают с мотивами, ничего парадоксального нет, в этом случае как и во всех других познавательных актах, критерием истины является практика. Вопрос, однако, так легко не решается.
Практика в качестве критерия истины выстраивается по вектору и в соответствии с теми суждениями, для выявления степени истинности которых она предназначена. Истинность физических утверждений проверяется в физическом эксперименте, психологических — в психологическом и т. д. При этом каждый раз эксперимент строится на основе тех схем, которые содержатся в соответствующих утверждениях. В нашем же случае, когда выбор осуществляется вопреки представлению о том, каким он по моральным представлениям должен быть, речь не может идти о проверке моральных утверждений, способе практического выявления степени их истинности. Здесь поступок (практика) и суждение не соотнесены друг с другом. Более того, они направлены в противоположные стороны.
Если исходить из абсолютности морали и понимать добро и зло как оси координат человеческого поведения, задающие его позитивную и негативную направленность, суть которых состоит в том, что добро есть то, к чему он безусловно стремится, а зло есть то, чего он безусловно избегает, то получаем следующие выводы. Человек намеренно (сознательно) стремится только к добру (благу) и зло не может выбрать по определении. Если же он совершил зло, то оно не могло быть результатом сознательного выбора и не может быть ему вменено в нравственную вину. Парадокс, следовательно, состоит в том, что намеренное моральное зло невозможно, а ненамеренное зло не является моральным. Вопрос: как можно намеренно выбрать моральное зло, если оно не может быть намеренным?