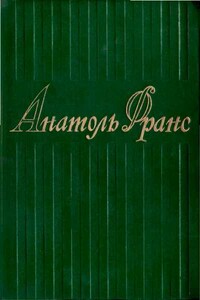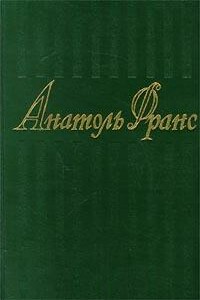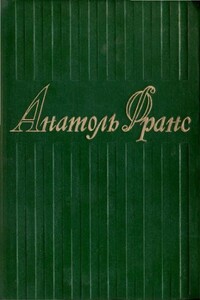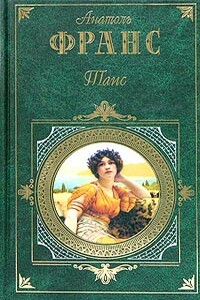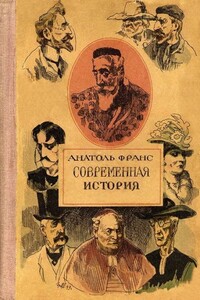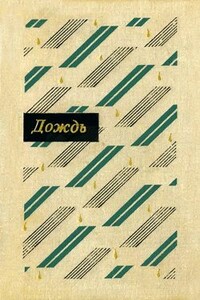Том 5. Театральная история. Кренкебиль, Пютуа, Рике и много других полезных рассказов. Пьесы. На белом камне | страница 33
— Ну, уж это он перехватил!
Робер успокоился и больше не винил себя. Легкие угрызения совести окончательно рассеялись, и он уже не понимал, как мог хоть на мгновение счесть себя ответственным за смерть Шевалье. Все же случившееся тяготило его.
Вдруг он подумал: «А что, если он еще жив!»
Только что, на протяжении какой-то секунды, при свете вспыхнувшей и тут же погасшей спички он видел, что у Шевалье прострелен череп. А что, если ему это только померещилось? Что, если это поверхностная рана, и ему только показалось, что повреждены череп и мозг? Трудно сохранить трезвый рассудок в первые минуты удивления и испуга. Рана может быть страшной, но не смертельной и даже не очень опасной. Ему, правда, показалось, что Шевалье мертв. Но ведь он же не доктор, чтобы судить об этом с уверенностью.
Его разозлил нагоревший фитиль, и он проворчал:
— Лампа чадит.
Потом вспомнил обычную поговорку доктора Сократа, неизвестно откуда взятую, и мысленно повторил:
— Эта лампа смердит, как тридцать шесть тысяч чертей.
Ему пришло на ум несколько случаев неудавшихся покушений на самоубийство. Он вспомнил, что читал в газете, как муж, убив жену, выстрелил из револьвера себе в рот и только раздробил челюсть. Он вспомнил, что как-то в клубе после скандала за картами один известный спортсмен хотел выстрелить себе в висок и только отстрелил ухо. Эти примеры поразительно подходили к данному случаю.
— Что, если он жив?..
Он жаждал, чтобы несчастный самоубийца еще дышал, он надеялся, вопреки очевидности, что его можно еще спасти. Он подумал, что надо найти бинты и сделать первую перевязку. Желая еще раз осмотреть Шевалье, лежащего в передней, он поднял, но слишком резко, не успевшую как следует разгореться лампу, и она погасла.
Неожиданно погрузившись в темноту, он потерял терпение и выругался:
— Вот сволочь!
Зажигая лампу, Робер льстил себя надеждой, что, когда Шевалье будет доставлен в больницу, он придет в себя, вернется к жизни. Он уже представлял себе Шевалье на ногах, такого долговязого, представлял, как тот кричит, кашляет, усмехается, и теперь Линьи уже не так страстно желал, чтобы он выздоровел, пожалуй, совсем не хотел этого, находил, что выздоравливать ему не к чему и даже нехорошо с его стороны. Он с беспокойством, с настоящей тревогой задавал себе вопрос: «Что станет делать этот мрачный комедиант, вернувшись к жизни? Снова поступит в „Одеон“? Будет щеголять в кулуарах огромным шрамом? Опять начнет донимать Фелиси своими ухаживаниями?»