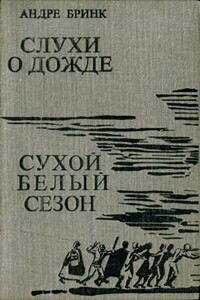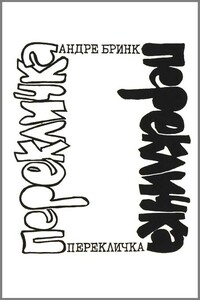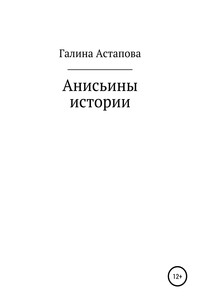Слухи о дожде | страница 63
Вторым моим другом был молодой историк Деннис Хант, ехавший преподавать в Кейптаун после защиты докторской в Оксфорде. Несмотря на англосаксонское происхождение, он был ярым националистом и даже упрекал меня за недостаточно твердые позиции в определенных вопросах. Вскоре после возвращения я вновь встретил его, сломленного и раздавленного реальностью апартеида. Находясь в Англии, он многое идеализировал, но действительность развеяла иллюзии. Все же он еще слишком любил эту страну, чтобы покинуть ее. Через два года он был уже на грани нервного срыва. Однажды он пришел ко мне и сообщил, что решил примкнуть к подпольной организации, хотя отрицал, как и прежде, любые формы насилия. Последнее обстоятельство наряду со всеми прочими заставило его чувствовать себя предателем и белых и черных и привело к глубочайшему кризису.
Вероятно, из-за связей с «нежелательными элементами» он вскоре подвергся репрессиям, и его паспорт был конфискован. Я пытался подбодрить его, но он был в слишком глубоком отчаянии, чтобы прислушаться к голосу разума. Несколько месяцев спустя он бежал в Лесото, называвшееся тогда Басутоленд, где его нервный кризис еще более усилился. Однажды стечение, казалось бы, незначительных обстоятельств — разбились очки, без которых он почти ничего не видел, в Масеру не оказалось врача-окулиста, не было денег на билет в Лондон, а вернуться в Блумфонтейн он не мог из-за угрозы ареста — привело к трагедии. Как только я узнал о его положении, я послал ему телеграфом деньги на билет в Лондон. Но они опоздали. В то самое утро он покончил с собой, бросившись с утеса. Он всю жизнь боялся высоты и стыдился этой своей слабости.
Было множество и других инцидентов, повлиявших на мое решение. Особенно после того, как я начал адвокатскую практику в Кейптауне, мне пришлось столкнуться с силами, подспудно действующими в нашем обществе. И они возмутили меня. В годы сомнений тем немногим, что подбадривало меня в моей работе, была вера в независимость и непредвзятость нашей юстиции. Не хочу оскорблять сегодняшний суд, но должен сказать, что крушение этой веры было одним из тягостнейших переживаний в моей жизни. И дело тут не в отдельных, частных случаях. Уже несколько лет тому назад мне стало ясно, совершенно ясно, что, несмотря на незыблемость наших законов, юриспруденция в этой стране является не механизмом правосудия, а механизмом для применения насилия. Я ужасался не только практике апартеида, но и всей нашей системе и тем принципам, на которых эта система базируется.