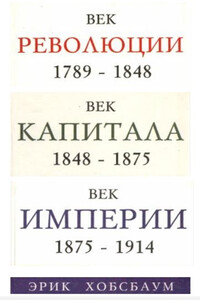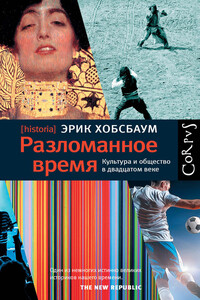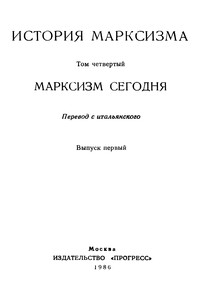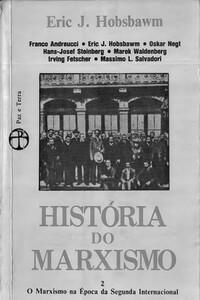Эхо «Марсельезы». Взгляд на Великую французскую революцию через двести лет | страница 39
Однако левые марксистского толка часто и напряженно размышляли о «бонапартизме», особенно в связи с классовой борьбой и классовым господством, когда противоборствующие классовые силы примерно равны. Обсуждался и вопрос о том, насколько в данных обстоятельствах государственный аппарат (или единоличный правитель), поднявшийся над классами или сталкивающий их между собой, способен быть независимым в своих действиях. Все эти споры отталкивались вроде бы от первой французской революции, хотя на самом деле принимался во внимание в первую очередь опыт правления второго Бонапарта. И, конечно же, все эти споры касались политических и исторических проблем, весьма далеких от событий 18 Брюмера, и даже проблем более общего исторического характера. В некоторых современных дискуссиях от истинного Бонапарта остается одно лишь имя, например когда речь заходит об авторитарных и фашистских режимах XX века [106]. Однако Великая французская революция вновь стала предметом политических дебатов в 1917 году и позже, в чем мы еще убедимся.
Как я уже говорил, опыт революции, даже во Франции, на протяжении XIX века все больше терял практическое значение для революционеров. Казалось, в 1830 году либеральная буржуазия осознала потенциальную опасность повторения якобинства и поэтому смогла нейтрализовать поднявшиеся на борьбу массы за несколько дней до того, как те поняли, что их обманули. Поэтому на этот раз либеральная буржуазия успешно совершила то, что не удалось в 1789—1791 годах. 1848 год рассматривали как очередной вариант революции, с той разницей, что ультралевые, которые претендовали на роль выразителей интересов нового пролетариата и шли намного дальше как якобинцев, так и санкюлотов, не смогли захватить власть даже на короткий срок, потому что их оставили в меньшинстве, переиграли, спровоцировали на изолированное выступление в июне 1848 года и жестоко подавили. Однако, как и после 9 Термидора 1794 года, победившие умеренные, \66\ даже вступив в союз с консерваторами, не имели достаточной политической поддержки для установления стабильного режима и потому открыли дорогу к власти второму Бонапарту. Даже Парижская коммуна 1871 года еще как-то укладывалась в модель радикальной революции 1792 года, во всяком случае, если говорить о таких ее сторонах, как образование революционной коммуны, создание народных клубов и т. д. Если для буржуазии события 1789—1794 годов давно стали достоянием истории, то для демократов и радикально настроенных социал-революционеров они далеко не потеряли своей актуальности. Радикалы, такие как Бланки и его последователи, хорошо усвоили опыт истории 90-х годов XVIII века, не говоря уж о неоякобинцах, таких как Делеклюз, которые считали себя непосредственными преемниками Робеспьера, Сен-Жюста и Комитета общественного спасения. В 60-х годах прошлого века были люди, которые считали, что после падения Наполеона III необходимо предельно точно повторить все, что было сделано в эпоху Великой французской революции