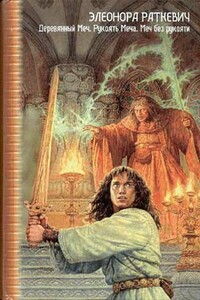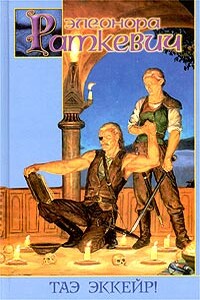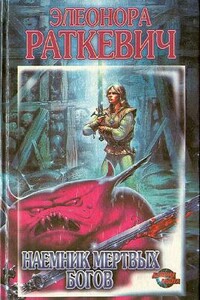Рукоять меча | страница 34
Он и вообще ничего предосудительного не делает – а сверстники, как ему мнилось, чаще уважают того, кто нашел в себе смелость совершить это самое предосудительное. Ему не пришлось делать ничего такого, к чему душа не лежит. А между тем он вознесся во мнении побегайцев на ослепительную, недостижимую прежде высоту. Он и помыслить не мог ни о чем подобном… наслаждение оказалось настолько острым, что назавтра Кэссин был единственным, кому не хотелось спать после наполненной кошмарами бессонной ночи. Едва дождавшись потемок, побегайцы завалились спать – а Кэссин вытянул из-за пазухи потрепанную книжку, проклеенную полосками, покрытыми ровной скорописью, и углубился в чтение.
От Гвоздя Кэссин все же таил свои ночные занятия, сколько мог, ибо чувствовал смутно, что Гвоздь не только не одобрит их, а и книжку отберет и подзатыльниками накормит досыта. Приходилось пускаться на хитрости. Чтобы наутро не клевать носом, Кэссин занимался не каждую ночь, а через раз: сонный вид выдал бы его Гвоздю с головой. Иногда Кэссин притворялся спящим и лишь после того, как убеждался, что все остальные заснули, выскальзывал за дверь и усаживался разбирать при лунном свете таинственные записи. Одного лишь Кэссин не мог укрыть от бдительного взгляда Гвоздя – своих распухших губ.
Он знал, что не может, не должен больше кричать. Он и не кричал. Когда он приходил в себя на залитой лунным светом портовой улице, губы его были искусаны в кровь, но он больше не кричал. Однажды он прокусил себе язык и едва не захлебнулся кровью прежде, чем ему удалось очнуться. Отоврался он на сей раз не без труда. Гвоздь посмотрел на него так, словно хотел что-то сказать, но все же смолчал: сам он Помело за ночными занятиями не застал ни разу, а бросаться обвинениями по одному лишь подозрению было у него не в обычае.
К этому времени Кэссин считал, что уже наловчился прятать концы в воду, а досадная оплошность с прокушенным языком… с кем не бывает? Однако он удвоил предосторожности, вовсе не желая быть захваченным врасплох. Невозможность похвастаться перед побегайцами, слегка тяготившая его поначалу, больше не занимала его мысли. Нашлось кое-что посерьезнее по части соблазна, чем пустая похвальба.
Сам страх, поначалу едва не убивший Кэссина, сделался для него притягательным. Бывало, по утрам Кэссин и сам клялся себе: «Нет, больше никогда, хватит, так и рехнуться недолго». Так то – по утрам, а чем ближе вечер, тем мучительнее желание снова испытать то необычное, что вознесло его над ровесниками, снова увидеть то, чего не видел никто из них, снова выйти победителем… Бывали, впрочем, и поражения. Первое из них и окончилось прокушенным языком и твердым – поутру – решением навсегда покончить с хождениями в мир иной. Но легко ли смириться с поражением тому, кто знал до сих пор только победы? Кэссин даже не стал дожидаться следующего дня, пожертвовал столь необходимым ему сном и в тот же вечер вернулся на поле своей битвы.