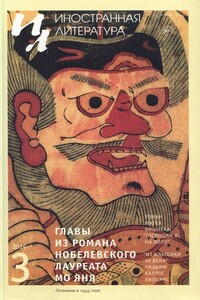Жалоба. С применением силы | страница 3
Некоторые эстетические формулы Уильямса выглядят почти как парафразы или вариации на тему этого стиглицевского манифеста, например: «Художники слишком много внимания уделяют тому или иному „изму“, и недостаточно — самой картине… Вот дерево — сколько раз его рисовали со времен Ренессанса до Дерена — тысячу? тысячу тысяч? И что же мы видим на картине? Дерево, конечно дерево: но это неправильный ответ, он лежит на поверхности. Дерева как такового не существует — понимайте это буквально, фигурально — как вам будет угодно: его не существует для взгляда художника, для взгляда любого из нас. А существует, и для художника — во всей своей интенсивности, переживание, вызванное формой и цветом объекта: чувство, ощущаемое всем его существом, всем телом, сознанием, памятью, привычкой к тому или иному пейзажу: художник смотрит собой, всем своим „я“, а не глазами»[6].
Для Уильямса «смотреть» и «понимать» — одно, когда опыт не разложим на «чувственное» и «интеллектуальное», а существует в их единстве, в перетекании одного в другое. Так, память о полотнах Ватто и Фрагонара легко встраивается в описание внутреннего переживания, сильнейшим образом замешанного на эротике, и работы художников XVIII века в стихотворении Уильямса — не изящная аллюзия, ни некая «ассоциация интеллектуала», а просто органика восприятия, действительно «чувственный интеллектуализм»: