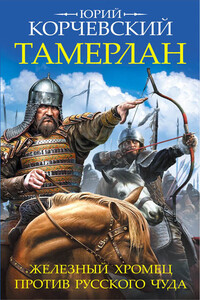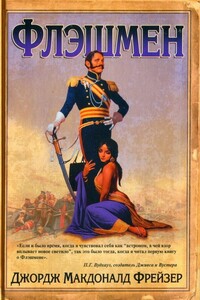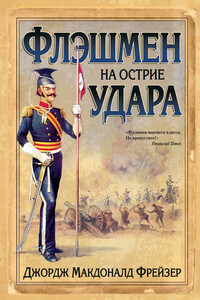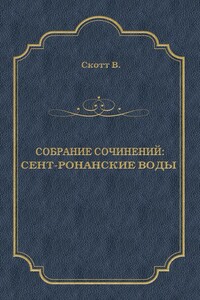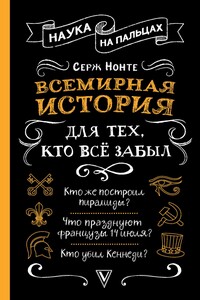Флэшмен в Большой игре | страница 160
Многие подобные вещи навсегда засели в моей памяти, но ярче всего я помню внутреннюю часть казармы, забитую ранеными, которые длинным стонущим рядом лежали вдоль стены, и буквально в нескольких ярдах от них, за наскоро сколоченными перегородками из досок и циновок — четыре сотни женщин и детей, которые провели в этой проклятой, провонявшей кровью и потом адской печи более двух недель. Первое, что поражало при входе, был смрад от крови, пота и больных, а затем уже звуки — голоса детей, крик новорожденного, ворчание стариков, порой даже смех, когда ядра падали далеко от входа; глухой гул женских голосов; неожиданный вскрик боли кого-то из раненых и резкие голоса из отгороженного занавесями угла, где Уилер разместил свой штаб. Потом уже взгляд падал на истощенные лица — озабоченных женщин, одни из которых были одеты в помятые фартуки поверх домашних платьев, а другие — так и остались в вечерних туалетах. Теперь они нянчили детей или ухаживали за ранеными. Тут же вдоль стен сидели прислонившись, сипаи, оставшиеся верными присяге, держа на коленях свои мушкеты. Какой-то штатский британец, что-то пишущий, прерываясь время от времени, задумчиво поглядывающий по сторонам, и вновь возвращающийся к своим записям. Рядом с ним — древний старик в дхоти и очках в стальной оправе, бормочущий себе под нос слова, вычитанные им тут же с обрывка газеты; изможденная девушка, зашивающая рубашку маленькому мальчугану, который ожидает, яростно отмахиваясь от мух, жужжащих у него над головой; двое офицеров в когда-то блестящих, а теперь — порванных и испачканных мундирах, мирно беседующих о разведении свиней — помню, простреленная рука одного из них была замотана разорванной рубашкой, а мундир был надет прямо на голое тело. Помню айю,[152] которая со смехом строила что-то из кубиков для маленькой девочки; здоровенного капрала, чистящего свою трубку; женщину, шепотом читающую что-то из Библии бледному человеку, лежащему на одеяле с обмотанной окровавленными бинтами головой, и старую, плотную седоволосую мэм-сагиб, раскачивающую колыбель.
Всех их ожидала смерть и некоторые знали об этом, но никто не жаловался на судьбу, и я не услышал ни единого слова отчаяния. Это казалось нереальным — то, с каким спокойствием они себя вели. Помню, как Мур сказал:
— Меня поражает, когда я вспоминаю, как наши женщины могли спорить и ругаться, сидя на верандах своих бунгало, а сейчас вдруг стали добрыми, как монахини. Помяните мое слово — если нам только повезет вырваться отсюда, они уже никогда не будут похожи на своих подруг.