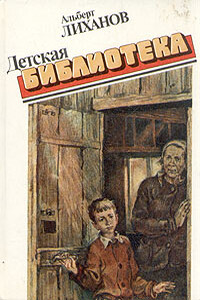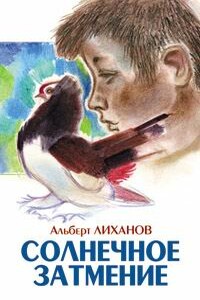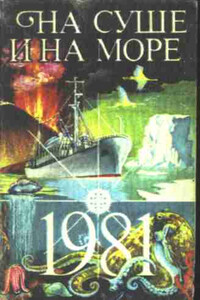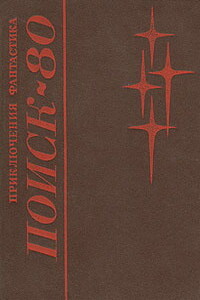Никто | страница 72
Так разъяснял детям насущные моменты жизни дворник Никодим, покуривая редкие теперь папиросы «Беломорканал» и популярно толкуя примеры, в интернате не изучаемые. Вольно-невольно это въедалось в кровь, и пацаны не раз испытывали снисходительность государства к ним, в отличие от родительских ребят. Если они грешили на глазах у взрослых, те махали руками: «А-а, детдомовские!»
Вот, черт! Детдом давным-давно переименовали в интернат, а их по-прежнему обзывали детдомовцами, даря, правда, при этом как бы дополнительную свободу, оправданную чем-то невзыскуемость. Но ведь и пренебрежение, неуважение – тоже. Воспитатели же, и Георгий Иванович – первый, только и повторяли, чтобы ребята не дергались, не отклонялись, не выскакивали, не хулиганничали, а учились, воспитывались, кормились за счет добродетельного государства, раз уж так получилось. А отечество родимое не подведет и выведет на широкий путь.
Повторимся: эти речи пригасали со временем, пока совсем не утихли, но, сказанные однажды, жили в умах детей, даже переступивших уже порог интерната, как, например, в Топорике.
И теперь, пытаясь неуклюже размышлять о себе и своих поступках, он улыбался, восхищаясь щедростью Валентина, и хмурился, приходя к выводу, что похвалы получил излишние, что за выдержку его друг, брат и хозяин принял воспитанное интернатом обыкновение не лезть, куда не просят, а ехать, как казенная тачка, ровно, по возможности не нарушая правил, что означает протяжный и долгий путь, отличающийся от резких ускорений, от нарушений правил, от форсажа двигателя, которые, конечно же, простит государство, но вот чем это обернется – не знает никто…
Однако разуверять Валентина было бы недостойно, и Топорик покатился по инерции дальше, как было предписано ему интернатскими заповедями.
А хозяин, как предупредил, резко изменился. Однажды за ужином, вглядываясь в пацана, он круто намазал черной икрой кусок белой булки и протянул ему, а когда Кольча, неуверенно отнекиваясь, все же согласился взять угощение, отдернул бутерброд и громко, несдержанно матюгнулся, обращая эти слова ему. Топорик содрогнулся от неожиданности, но, вспомнив уговор, тут же засиял улыбкой.
– Вот тварь, – взъелся хозяин, – еще и лыбится! – И велел Кольче тут же отсесть от него.
В комнате зависла тишина, но амбалы переваривали перемену поразительно споро для их массивных голов и бычьих шей. Кольче показалось даже, что этого момента заждались, потому что все единодушно оживились, заколготились, заговорили, забренчали рюмки, коллектив однодельцев забурлил, не останавливаемый больше ни песнями с неизвестными им словами, ни искусственным, вовсе ничем не оправданным повышенным уважением к этому пацану, этому щенку.