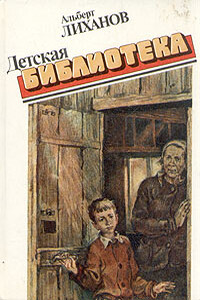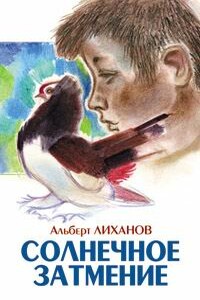Никто | страница 66
А у Гошмана есть чемодан? Хотя, если и есть, он же не вышел из интерната, значит, заглядывать туда пока запрещается. Но почему? А вдруг в этом чемодане хранится какое-то доказательство, что ли? Чье-то имя, какая-нибудь незначительная бумага?
Эх… Топорик снова тормознул, поехал медленнее. Если бы чемодан был, директор не забыл бы его отдать. Это во-первых. Во-вторых, бумаги там не хранятся. В чемоданишках барахло, какая-нибудь мура, это ясно как дважды два. Что же, в интернате совсем уж дураки сидят? Каждый чемоданишко десять раз обшмонают, оглядят, исследуют и все, что надо, в скоросшиватель воткнут, в личные их дела…
И все равно Кольча Топорик не заплакал, не наполнил глаза мокротой, не хлюпнул носом, не сказал даже каких-нибудь особенных слов Гошману. Проговорил только:
– Ништяк, пацан! Пробьемся!
Он бросил взгляд на корешка и зафиксировал, что тот смотрит на него как-то чересчур внимательно. Он мотнул головой, словно стряхивал с себя этот опутавший его взгляд, но ничего не вышло. Будто бы что-то непонятное, необъяснимое обняло, стеснило его со всех сторон, какая-то неловкость, непонятное неудобство, а может, стыд… Люди подвластны состояниям странным, малообъяснимым, которые возникают в них и вокруг них, как озарение, например, которое способно подвигнуть на что-то важное, решительное, даже мужественное, как прозрение, враз снимающее с них туман неочевидности и неправды, и как, наконец, морок, неясное томление, предположение, а часто и предсказание того, что обязательно сбудется, хотим мы того или нет…
Морок, горечь, тяжелое предчувствие точно опутали Кольчу, и он, стыдясь этого, ясно понимал, что тяжелое его предположение прежде всего относится к Гошману, но и к нему тоже, и это, относящееся к нему, волнует его больше и страшнее, чем даже сама Гошкина жизнь.
Он весь пылал, сминаемый душным мороком, даже майка, похоже, промокла, когда он причалил к интернату.
Истончившийся, прозрачный Гошман, так неузнаваемо непохожий на себя прежнего – чересчур полного, даже одутловатого, пожал Кольче руку и, пояснив, что недельки три ему придется пожить дома, то есть в интернате, а потом двигаться назад, в больницу, вышел из «Мерседеса».
Топорик поехал к месту сбора, потом, как положено, уступив руль Андреотти, совершал обход, но двигался, говорил, считал, если надо, деньги все в той же мерочной невесомости, когда ты вроде бы живешь как всегда, а на самом деле ничего не ощущаешь – ни ног, ни тела своего, а слова, которые сам же произносишь, слышатся как-то издалека.