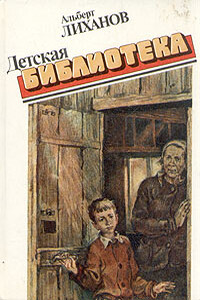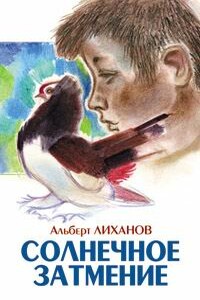Никто | страница 22
А выражалось это вот теми изломами: вдруг ни с того ни с сего, без всякой внешней причины, его начинало корежить изнутри, ломать, как при гриппе. То, что можно было бы признать не мыслями, а лишь их частицами, мелкими кусками размельченного, разбитого, раскромсанного целого, вдруг начинало складываться в поражающую всякий раз мысль, в ветку, хлещущую по твоим же глазам.
Он опять терял дно под ногами, не умея при этом плавать.
Страшась, не желая знать о себе ничего нового, Кольча сопротивлялся этому внутреннему напору, старался разрушить волну, подступающую к горлу, но чем дальше, тем хуже у него это получалось.
Ведь кусочки мыслей, знаний, ощущений складывались, в сущности, в самый простенький, да вот какой тяжелый и безответный вопрос:
– А ты кто?
7
Повторим: Коля Топоров представлял собой генетическую конструкцию, нетипичную для интерната.
Дети в сиротском заведении все сплошь излом да вывих, во всяком случае, признать спокойными их нельзя – сплошь неврозы, а он спокоен.
Спокоен так, что, кажется, из него вынуты нервы. Вынуты, накручены на катушку из-под ниток и заброшены в дальнюю даль. Оттого и казался он совершенно бесчувственным, что вовсе не означало, будто он не видит, как мечутся, отчего мечутся другие.
Со стороны казалось, что перед вами совершенно уверенный в себе мальчик, а его спокойствие и немногословие обманывали окружающих, даже живущих рядом, заставляя предполагать, что он полностью благополучен. Ничего себе обманчик… Словом, получалось так, будто Топор выдает себя не за того, кто он есть. Его бы яснее поняли, если бы он матюкался, не стесняясь взрослых, дико орал в коридоре, как почти все остальные, переходя из учебного корпуса в спальный, давал жестоких щелбанов маленьким и беззащитным, точно сладостную музыку слушая их вопли, а потом отбрехивался от наступления училок и воспитателей, улыбаясь и заранее зная, что безнаказан абсолютно и полностью – разве можно признать наказанием нудные, с одним и тем же набором слов, нравоучения – а никаких других форм наказания в интернате быть не могло. К примеру, карцера.
Нет, дома, то есть там, где спал, ел, учился, Топор не резвился, не гулял, тем более не орал и не матерился, холодно поглядывая на других выскочек и прочих невыдержанных типов, которые при этом взгляде почему-то примолкали, особенно после его, Кольчи, шестого класса. Он вообще не любил материться, полагая сие показухой, хотя – и это узнал народ – заметно оживал за интернатской оградой, как бы приноравливаясь ко всему, что было чужим, не ихним, странно свободным, с одной стороны, и столь же странно ограниченным разными правилами и условностями – с другой. Вот эти-то условности и волновали Топорова, как бы бросая ему вызов.