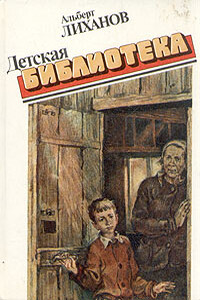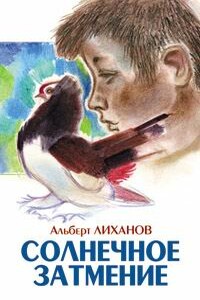Благие намерения | страница 38
– Ты Зину Пермякову, дева, за хорошие дела подхваливай чаще да и при всех. Ее похвалить то же, что перцу подбавить, так и горит! Ну и что-нибудь сразу набрасывай, заботу какую. Правда, она норовит дело попроще исполнить – пол подмести, чашки перемыть. Грешки есть – умственного труда не любит, читать, писать небось не пылает? – ну вот видишь.
Мои рассуждения о Коле Урванцеве Наталья Ивановна выслушала со вниманием, подтвердила:
– Распускается цветик, молодец. Ты его холи. Для них теперь каждый день – эпоха, только знай приглядывай. Дай-то бог!
Ученическую тетрадку я исписала вдоль и поперек, добавляя в нее то, что не могли вобрать характеристики, была благодарна Наталье Ивановне за ее меткость и память, хвалила себя за придумку навестить детдом, и все же наиглавного Мартынова мне не говорила.
А может, и нет никакого такого наиглавного, в конце концов, их ведь тут тоже не ах как много, взрослых. Едва ли больше, чем у нас. Может, старуха и дочка выкладываются, а остальные? Разве раскусишь такое с налету, и я черпать пришла туда, где у самих мелко?
Записывая, спрашивая, отвечая, я не забывала снова и снова рассматривать комнату. Меня не покидало ощущение, что я что-то забыла. Чего-то не хватало в этом доме, что обязательно должно быть. Наконец вспомнила: душ, поющую Зину Пермякову. Подумала и брякнула:
– Наталья Ивановна, спойте под гитару!
Мартынова онемело воззрилась на меня, из-за ее плеча удивленно глядела дочка-заместительница. Старуха расхохоталась, блеснув фарфоровыми вставными зубами.
– А ты ничего, дева, способная, – сказала она, сделала едва уловимое движение головой, ее дочка неслышно скрылась, а возникла уже с большим футляром. Это была целая церемония: открывались застежки, аккуратно вынималась гитара, да такая, что мы с Лепестиньей обе тихонечко охнули: черная, лакированная, отделанная перламутром, который радужно переливался.
Была глухая ночь, за окном, рядом с тополем покачивалась на ветру лампочка под старомодным колпаком, напоминавшим мужскую шляпу, а старуха сосредоточилась, ушла в себя, перебирала тихонечко струны. Мартынова запела неожиданно, и голос, которым она пела, совершенно не походил на тот, каким директриса говорила, – словно она мгновенно помолодела: слова выпевались негромко, но как-то глубоко и сильно.
Меня не покидало ощущение, что все это уже случалось со мной. Старинные романсы любила мама, и тот, что пела Мартынова, был известен мне, просто я давно его не слышала, с тех пор как уехала из дому, – неудивительно, у меня началась новая жизнь, – и вот теперь дохнуло старое. Не домом повеяло на меня, нет, от дома у меня оставался горький осадок, просто что-то дорогое, близкое подошло ко мне. Прошлое, вот что. Мое такое короткое прошлое. А Наталья Ивановна пела последний куплет. Он печальный в этом романсе, и неожиданно я подумала, что если уж у меня есть прошлое, то у Мартыновой оно по-настоящему давнее. И еще я подумала, что каждый человек – загадка, и вот эти две женщины, мать и дочь, тоже загадка и, верно, прекрасна загадка, которую мне не хотелось бы разгадать. Пусть так и останется загадкой.