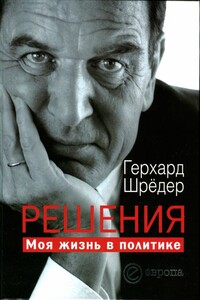Сталинским курсом | страница 109
Женский и мужской секторы находились в разных концах зоны. Тогда (в 1942 году) мужчины и женщины еще могли свободно общаться друг с другом, так как между их общежитиями не было ни забора, ни колючей проволоки, ни стены. Хотя официально и существовал запрет выходить за пределы своего сектора, стража (те же заключенные) сквозь пальцы смотрела, как мужчины и женщины ходили друг к другу в гости. Меня с Оксаной это очень устраивало, и мы могли беспрепятственно навещать друг друга.
Однажды Оксана прибежала ко мне со слезами на глазах и сказала:
— У меня украли туфли, совсем новые, только два раза надевала их. Помнишь, ты целый день простоял за ними в очереди в киевском универмаге. Как мне их жаль! Подозреваю одну профессиональную воровку, но пойди докажи, что она украла. Тебя же еще и побьет.
Я ничем не мог утешить Оксану. Для меня было ясно, что борьба с этим злом в лагере невозможна и только проявляя крайнюю бдительность, можно лишь до некоторой степени уберечь себя от краж.
Вскоре меня перевели на нары. Дни проходили за днями. Положение наше оставалось неопределенным. На работу нас не брали. Вербовщики подбирали себе крепких, здоровых людей.
В распреде был клуб. Довольно часто кружки художественной самодеятельности давали концерты. По вечерам заключенные массами шли в клуб. Я томился от безделья и подумывал, не устроиться ли мне в оркестре музыкантом. Дело в том, что до ареста я довольно усердно учился в вечерней музыкальной школе играть на скрипке и добился некоторых успехов. Еще в молодости, будучи студентом, я неплохо играл на скрипке.
Недолго думая, я познакомился с руководителем оркестра Ознобишиным. Это был симпатичный человек средних лет, работавший до ареста бухгалтером в одном из московских учреждений.
— Так вы хотите включиться в наш оркестр? — спросил он, приветливо улыбаясь. — Нам, конечно, музыканты нужны, но только такие, которые знают ноты. Мы играем серьезные вещи. Сыграйте что-нибудь с листа.
Он протянул мне смычок и скрипку. Это была большая, неуклюжая самодельная скрипка грязного матово-белого цвета, сделанная каким-то неизвестным мастером-самоучкой из заключенных. Она даже не была покрыта лаком. Смычок скорее напоминал лук — так он был изогнут. Принимая скрипку, я подумал — не ударить бы лицом в грязь! Правда, прошел только год с тех пор, как я не брал в руки скрипку. Разучиться играть за такой срок нельзя, но, когда я приложил к плечу эту уродину, провел смычком по струнам, я почувствовал, что с треском проваливаюсь. Это явилось результатом сильного голодания в тюрьме — я был еще до того слаб, что еле шевелил пальцами, они потеряли всякую гибкость, а рука, поддерживавшая скрипку, бессильно опускалась вниз, не выдерживая ничтожного ее веса. Словом, из попытки доказать свое умение вышел один только конфуз. Мне стало стыдно и неловко. Я ждал, что Ознобишин сейчас же уличит меня в очковтирательстве. Стараясь выпутаться из глупого положения, я горячо заговорил: