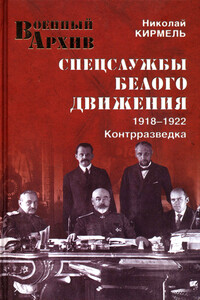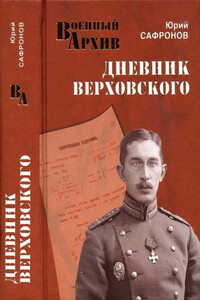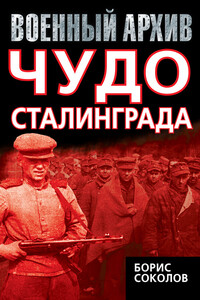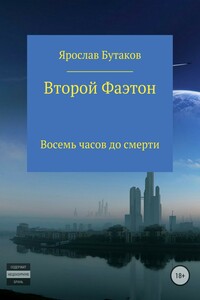Брестский мир. Ловушка Ленина для кайзеровской Германии | страница 38
Наряду с этим даже у лиц, лояльных к власти, росли сомнения в дееспособности государственного строя Российской империи. По аналогии с действиями командного состава на поле боя, мы вправе заключить, что правительственный аппарат России справлялся с трудностями военного времени ничуть не хуже, чем его коллеги в западноевропейских странах. С поправкой, вероятно, на инфраструктурное отставание России, которое, однако, нельзя было ликвидировать в одночасье. Но более низкая эффективность русской государственной машины ставилась обществом в вину не ее низкой технической вооруженности, а ее устройству.
Это, как и желание видеть во всех неудачах результат тайных вражеских козней, было заведомо неверно, зато удобно. Вместо необходимости трудиться по принципу «Все для фронта, все для победы!», как это было потом в Великую Отечественную войну, обществом нагнеталась иллюзия легкого, политического решения тяжелых проблем, объективно стоявших перед Россией.
Раскрутка грандиозного шпионского скандала началась с дела жандармского полковника Сергея Мясоедова. Вина его не была доказана, но Верховный главнокомандующий великий князь приказал военному суду повесить Мясоедова независимо от наличия улик. Однако Молох общественного мнения не был этим удовлетворен. Всем казалось, что такое ничтожное лицо, как полковник, не могло быть центром всей изменнической деятельности. Так потянулась новая ниточка расследований, довольно быстро приведшая к отставке и аресту генерала от кавалерии Владимира Сухомлинова, военного министра.
Дело Сухомлинова сильно дискредитировало русскую власть, тем более что обвинение в измене было шито белыми нитками. «Ну и храброе же у вас правительство, раз оно решается во время войны судить за измену военного министра!»>{43}, — изумленно заявил летом 1916 г. британский министр иностранных дел Эдуард Грей руководителю русской парламентской делегации Л.Д. Протопопову Николай II, выдав своего министра на заклание, не спас, однако, себя от участи Карла I Стюарта, но Сухомлинов оказался счастливее Страффорда[13].
Судили бывшего военного министра уже после Февральской революции. «Либеральный и демократичный» режим Временного правительства попрал в этом процессе все нормы права и законности. Никаких фактов, уличающих Сухомлинова в связях с врагом, обнаружено не было. Тогда суд приговорил царского министра «за служебную халатность»… к пожизненной каторге! Ни одна статья Уголовного уложения не предусматривала такого сурового наказания за такое преступление. Большевики, придя к власти, помиловали пожилого больного генерала и дали ему возможность выехать за границу.