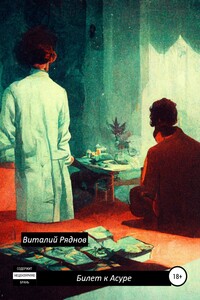Время спать | страница 28
— Знаешь, я, пожалуй, пойду, — говорю я маме.
— Уже? Может, останешься на ужин? — просит она.
Мне кажется, сейчас самое время рассказать что-нибудь такое, что может компенсировать все мамины недостатки. К сожалению, ее стряпня для этого не годится. Моя мама представляет себе приготовление пищи следующим образом: берется неимоверных размеров кастрюля, наполняется водой и ставится на плиту на два-три дня (можно еще добавить гусиные потроха и одну гусиную лапку), затем содержимое разливается в тарелки и подается под видом куриного супа. Все остальные ее блюда получаются либо разваренными, либо пережаренными. При приготовлении татарского бифштекса (насколько я помню, это сырой фарш с яичным желтком и разными соусами) для нее самое важное — это чтобы мясо подгорело и было твердым, как подошва ботинка; если она делает бифштекс с кровью, то он и вовсе оказывается тверже кирпича. Впрочем, жарка — это не совсем ее стихия; чаще всего она готовит особенное блюдо из тушеного мяса. Отцу оно нравится, и поэтому мама называет блюдо «Крошка Стю», а в ответ слышит обвинение в том, что она старая шлюха с дерьмом вместо мозгов. Чудесное блюдо, но за два-три дня на плите кусочки мяса засыхают, а потом и вовсе рассыпаются.
— Ну, я еще зайду. Только вот напишу что-нибудь для Бена… — говорю я, поднимаясь со стула.
— А ты не задумывался о покупке, как я говорю, «компьютера»?
Еще одна странная привычка: она думает, что использование некоторых общеупотребительных слов — исключительно ее прерогатива.
— У меня нет денег на компьютер.
Одеваюсь.
— Пока, пап, — прощаюсь я. В ответ слышится какое-то неясное мычание.
На самом деле отец кричит только на маму, но он зашел настолько далеко, что уже не знает, как иначе можно общаться с людьми; так что если он обращается не к маме, то просто мычит.
У двери мама целует меня на прощанье. И тут я вдруг вижу ее лицо, освещенное заходящим солнцем, ее глаза и, несмотря на озлобленность, понимаю, что это родной для меня человек. И что мне надо бы извиниться за все: за жестокое безразличие, за издевки, за отца, за то, что никогда ее не слушал. Какой бы нелепой ни была твоя жизнь, ты меня родила, и я должен относиться к тебе с уважением. Но мама заговаривает первой, и мне кажется, что она сама все скажет за меня, и мы в кои-то веки попрощаемся, по-настоящему поговорив.
— Не будь как еврейский почтамт, — говорит она на прощанье.
Я никогда не понимал, что это означает.