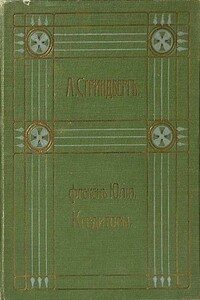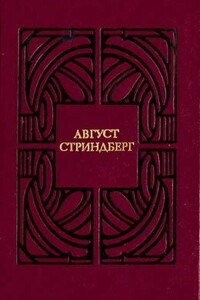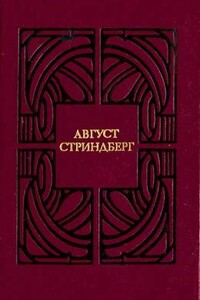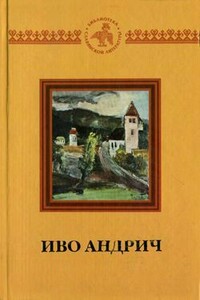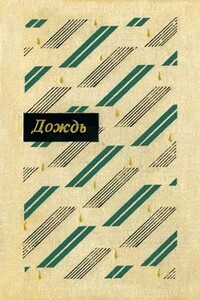Том 4. Красная комната | страница 53
Он еще раз щелкнул хлыстиком по корешкам своих изданий, отворил дверь, показал своему биографу выход и вернулся к своему алтарю.
Фальк не мог, по обыкновению, и в этом была его беда, найти раньше подходящий ответ, чем тогда, когда уже было поздно; он уже был внизу на улице, когда он ему пришел в голову. Отверстие подвала, случайно бывшее открытым (и не заклеенное объявлениями), приняло биографию и портрет. Потом он пошел в ближайшую редакцию газеты, чтобы напечатать объяснение по поводу «Факела Искупления», а затем ожидать верной голодной смерти.
Часы били десять на Риттергольмской церкви, когда Фальк прибыл к зданию риксдага, чтобы помочь хроникеру «Красной Шапочки» во второй палате.
Он спешил, ибо думал, что здесь, где платят, как следует, будут пунктуальны. Он поднялся по лестнице комиссий, и ему указали на левую галерею прессы второй палаты. Он с торжественным чувством взошел на те немногие доски, подвинченные в роде голубятни под крышей, где «люди свободного слова слушают, как священнейшие интересы страны обсуждаются её достойнейшими». Для Фалька это было нечто совсем новое; но им не овладело никакое новое впечатление, когда он глядел вниз со своих лесов и увидел под собой пустой зал, вполне походивший на ланкастерскую школу. Было пять минут одиннадцатого, но кроме него не было ни одной живой души. Несколько минут царило молчание, напоминавшее ту тишину, которая наступает в деревенской церкви перед проповедью. Вдруг скребущий звук донесся через зал. «Крыса», — думал он; но потом он видит напротив себя маленькую придавленную фигурку, чинящую карандаш на барьере; и он видит как стружки летят вниз и ложатся на стол.
Глаза его продолжают ощупывать пустые стены, но не находят точки отдохновения, пока они, наконец, не останавливаются на старых стенных часах времен Наполеона I. Стрелки показывают десять минут одиннадцатого, когда дверь в глубине открывается и входит человек. Он стар; его плечи согнулись под бременем всяких должностей, спина — под тяжестью общественных поручений; что-то заслуженное в его бесстрастных шагах по длинной кокосовой циновке, ведущей к кафедре. Когда он дошел до её середины, он останавливается, — похоже, что он привык останавливаться на полпути и оглядываться; он останавливается и сверяет свои часы со стенными и недовольно трясет своей старой поношенной головой: слишком рано! слишком рано! И лицо его выражает неземной покой, оттого что часы его не могут отставать. Он продолжает идти такими же шагами, как будто бы идет навстречу цели своей жизни; и вопрос, не нашел ли он ее там, в почтенном кресле на кафедре. Когда он достигает цели, он останавливается, вытаскивает платок и сморкается стоя; потом он скользит взором по блестящей толпе слушателей, изображаемой столами и скамейками, и говорит нечто значительное, например: «Господа, я высморкала!» Потом он садится и утопает в председательской невозмутимости, которая могла бы быть сном, если бы не была бодрствованием.