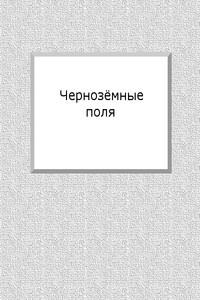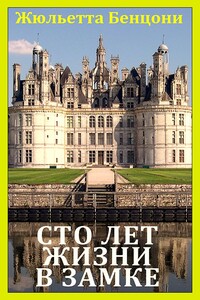Барчуки. Картины прошлого | страница 12
— Мы? В нижней девичьей? — продолжал изумляться Ильюша с видом самой простодушной искренности. — Да мы целый вечер здесь внизу сидели, мамаша, хоть у Аполлона спросите… Мы к завтрему уроки учим.
— Мы даже и не выходили ни разу; как же бы мы могли, мамаша, раздевшись выйти? — заговорили все мы, ободрённые наглым запирательством нашего хитроумного Улисса, и в первый раз осмеливаясь взглянуть на маменьку.
— Это точную правду они докладывать изволют, сударыня, — доложил Аполлон, стоявший у печки в почтительной позе с заложенными назад руками.
— Да как же ты это говоришь, старый, когда мне все девки сейчас сказали? Я сама в нижней девичьей была, всю эту кутерьму ещё застала.
— Что вы, сударыня, сумлеваться изволите? Слепой я, что ли? День-деньской таки с ними сижу; как же мне не видать? Эти полоумные брешут зря, не из чего вашу милость беспокоят. Я и сам не покрою проказу ребёнка, коли что вижу; а напраслину взводить зачем же? Напраслину не годится взводить.
К несчастью, в это время маменька взглянула на Петрушу. Царапина под глазом сделалась у него совсем пунцовая и проступала кровью; рукав его бешметика был оторван почти совсем, и из-под мышки упорно выглядывали белые клочки рубашки, несмотря на все старания Петруши придавить их плечом.
— Ах вы негодяи, негодяи… — проговорила мать, укоризненно качая головою. — Встань и подойди сюда…
Пьер встал, оскорблённый, понуря голову, неуклюже и неохотно. При этом движении рукав сполз до половины руки и обнаружил уже начистоту мокрую от пота рубашку. В то же время мы все увидели, что левый борт Пьерова сюртучка висел, как ухо легавой собаки, на третьей петле.
— Господи, Господи! — в ужасе говорила мать, всплёскивая рукам: — на что только похож? Где ты мог так убраться?
Пьер стоял перед ней немного боком и что-то глухо мычал, словно обиженный.
— Весь исцарапан, изорван, измазан! — продолжала между тем мать, рассматривая его в неописуемом огорчении. — Подумают, что ты с кошками на крыше дрался.
— М-м… М-м… — ворчал Пьер, вздёргивая правым плечом, как бы желая отодвинуть им досадную ему речь.
Потом подняли меня с моими ссаднем на щеке, с мокрыми сапожонками, оттаявшими от снега в тёплой комнате; подняли Костю, оказавшегося без правого сапога, оставленного им в добычу девкам, с окровавленными зубами, которые он показал только после разных молчаливых увёрток, будучи наконец вынужден заговорить, следовательно, раскрыть свой рот. У хитроумного Улисса были открыты и тщательно обследованы продранные, в пыли испачканные коленки, на которых он с таким самоотвержением подкрадывался к ночнику; а также и следы конопляного масла на рубашке, которое он нечаянно пролил из того же знаменитого ночника. Но все эти, сами по себе убедительные, доказательства были ничто в сравнении с последним убийственным доводом, который был открыт маменькою ранее всех других, но по жестокосердию её был прибережён нам на закуску.