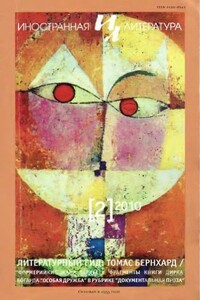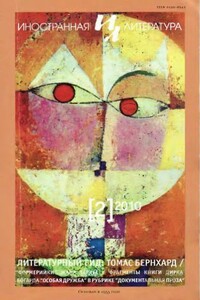Все во мне... | страница 59
и с тех пор все делал добровольно. И если я прежде все делал против воли, теперь я все делал по своей охоте, не сопротивляясь, с большой радостью. И не то чтобы я считал, будто я открыл смысл жизни, даже хотя бы смысл своей жизни, я просто почувствовал, что принял верное решение. И сегодня я должен подтвердить, что решающей минутой для всей моей последующей жизни была та минута, когда я круто свернул с Райхенхаллерштрассе. Наверно, для меня без этого вообще никакой жизни больше не было бы. Те обстоятельства, которые в конце концов задушили и погубили моего деда, задушили и погубили мою мать, наверно, и меня задушили бы и погубили. Останься я гимназистом, я был бы задушен и загублен; став учеником в подвале шерцхаузерфельдских трущоб, под присмотром и руководством господина Подлахи, я выжил. Подвал стал моим единственным спасением, чистилище (вернее, ад) — моим единственным прибежищем. Теперь раз в неделю, не помню точно, в какой день, я должен был посещать торговую школу, которая помещалась в так называемом Новом Борромеуме, в Парше. Учителя там были совершенно не похожи на гимназических преподавателей по вполне понятным причинам — они пошли преподавать для престижа, для заработка, для верной пенсии в старости, и своей неоспоримой связью с сегодняшним днем, своей ежедневной причастностью к реальной жизни заслужили полное мое доверие. И то, что нам преподавали, мне было интересно, потому что совсем для меня ново, и, к своему великому удивлению, я отлично понимал все условия игры в коммерческой математике. Та математика, которая в гимназии меня абсолютно не интересовала и всегда казалась удручающе скучной, теперь, в торговой школе, неожиданно меня очаровала. Недавно мне в руки совершенно случайно попалась старая школьная тетрадь, и я еще раз убедился по ее содержанию, что мне и вправду было интересно, хотя все осталось в далеком прошлом и такие выражения, как «заимодавец списывает с конто ту сумму, каковую ему надлежит внести контрагенту для погашения вышеупомянутой суммы», казались мне занятными и значительными. Не скажу, чтобы я охотно ходил в торговую школу, хотя приходилось ходить в Новый Борромеум ненадолго, да и эти посещения часто срывались, оттого что у меня на них не хватало времени: то назначалась выдача продовольствия по карточкам, то у меня уходило много времени на уборку магазина. В этой школе учились не школьники, а ученики, которые не захотели быть школярами. И учителями, в сущности, были владельцы магазинов или так называемые экономисты, и хотя они тоже по большей части были туповаты и заносчивы не меньше, чем преподаватели гимназии, но все же оказались гораздо покладистее. В отличие от других учеников, не знавших гимназического ада, прошедших лишь среднюю или чаще только начальную школу и не травмированных предыдущим обучением, я не очень любил эти занятия в торговой школе. И тут, в сущности, царила та же узколобость, та же мелочность, лживость, то же чванство, как и там, но тут во всем не было такой извращенности и фальши, тех гадостей, которые творились в «гуманной» гимназии. Тут во всем преобладала откровенность, хотя и грубоватая, но деловая, и соблюдались правила игры, установленные людьми деловыми, настоящими хозяевами. И даже ложь была не такой грубой ложью, как в гимназии, и то, чему тут учили, непосредственно шло на пользу, а не было явно бесполезным, как то, чему учили в гимназии. И со своими соучениками в этой школе я никаких затруднений не испытывал, я сразу сдружился со всеми. Меня лично больше всего удивляло, что я сам вдруг попал в торговое сословие, и это я сразу неоспоримо осознал в той школе, оспаривать тут было нечего. Да я и не хотел ничего оспаривать. В памяти у меня сохранились и хромой учитель-математик Вильхельм, и владелец москательной лавки инженер Рийс — полные противоположности по характеру, но удивительно дополнявшие друг друга люди. Когда я там учился, они задавали тон всему училищу. Встреча с ними принесла мне много пользы, хотя я и не очень симпатизировал одному из них, потому что мне с ним было неинтересно, зато другой стал мне гораздо ближе. И тут, как и везде, где сталкиваются люди, существовал опасный водораздел между симпатией и антипатией, но я старался избежать столкновений, нашел свое место среди всех людей и многому научился. В подвале мне как ученику приходилось не только заниматься уборкой, наведением порядка в лавке и на складе, не только всегда глотать пыль, особенно вредную пыль от мешков с мукой, от которой чаще всего болели ученики в продуктовых лавках, таская и пересыпая изо дня в день тяжелые мешки муки и круп; пыль эта вызывала тяжелые легочные заболевания, и тогда ученику приходилось навсегда отказываться от этой профессии. Работа ученика состоит не только в постоянной будничной работе, и в подвале Шерцхаузерфельда, как в любой продовольственной лавке, надо прежде всего открыть ставни и решетки на окнах, отпереть дверь, впустить хозяина, служащих и покупателей в лавку, где накануне иногда часами приходилось все убирать, мыть, раскладывать товары по местам, и вся эта кропотливая, очень утомительная работа требует от ученика большой любви и внимания ко всем мелочам, и хорошо выполнять ее, в сущности, может только человек с хорошей памятью, с умением комбинировать, распределять и рассчитывать все по мелочам. И ко всем этим работам и к сотне других столь же важных обязанностей в мое время добавлялась еще ужасающая по кропотливости, требующая неусыпного внимания возня с продовольственными талонами, которые вырезались из продовольственных карточек и ежедневно, после закрытия лавки, наклеивались на огромные листы картона. Я уже не говорю о том, что надо было постоянно таскать мешки, наливать бутыли, отбирать картофель, сортировать фрукты и овощи, насыпать в пакетики чай и кофе, нарезать сыр и масло, не говорю о том, что приходилось приспосабливаться, чтобы разливать уксус, и масло, и всякие соки, а также ром и разливное вино и морс в бутылки со слишком узкими горлышками, и вечно бороться с плесенью, сыростью, насекомыми, со слишком высокой или слишком низкой температурой, не говорю и о выгрузке и погрузке самых разнообразных товаров, поступавших всегда неожиданно, в любую минуту; приходилось бегать сто раз из лавки на склад и обратно, непрестанно нарезать хлеб, намазывать булочки, закрывать колпаком ветчину, ставить яйца в холодильник, не говоря уж о ежедневной уборке, вытирании пыли на всех полках, о беготне от прилавка к холодильнику, от разных полок к прилавку, не говоря и о постоянном мытье и вытирании рук и почти непрерывной точке ножей, ежедневной чистке ложек и вилок, ежедневном мытье стаканов, не говоря о мытье окон и полов и непрестанной борьбе с мухами и комарами, с мошками и осами, с паутиной на стенах, — не говоря обо всем этом, все-таки самым важным было не терять контакта с покупателями, быть с ними всегда приветливым, вежливым, внимательным, постоянно следить за собой, всегда стараться их удовлетворить и ни на секунду не забывать о том, как надо себя вести с каждым в отдельности, да и со всеми вместе. С одной стороны, надо выполнять все желания покупателя, но, с другой стороны, никогда не поступаться интересами дела. Нужен порядок, должна царить чистота, и покупатели и шеф должны постоянно чувствовать внимание, всех надо обслуживать как можно лучше, и в кассе к вечеру все должно сходиться. К великому моему удивлению, к удивлению моих сослуживцев и к величайшему удивлению самого нашего хозяина, я очень быстро втянулся в работу, никаких трудностей для меня не было, мне легко было делать то, что от меня требовали, то, что было нужно. И к тому же я всей душой шел людям навстречу, я принес свою жизнерадостность сюда, в подвал, и заразил всех окружающих, а я и сам не знал, откуда эта внезапная способность радоваться и своей радостью заражать других — видно, она всегда жила во мне и теперь вырвалась на волю, ничто не могло ее задушить. Многие приходили в нашу лавку, в подвал, просто для того, чтобы посмеяться вместе со мной. Я встречал их приветливо, умел сострить, пошугать, и мои шутки всегда доходили до наших покупателей. Мой шеф занимался закупками у оптовиков и спокойно мог на целые дни оставлять меня в подвале, иногда совсем одного, когда болел другой ученик, Карл, или подручный Герберт по какой-нибудь причине не являлся на работу. Скоро я стал отлично справляться один, и мне ничего не мешало, и даже, когда десятки людей теснились у прилавка, я обслуживал их неторопливо, внимательно, целиком погруженный в свою работу и в то же время почти влюбленный во всех своих покупателей. Мой хозяин знал, что может полностью положиться на меня, и бывали дни, когда я, без разговоров, в одиночку, справлялся с толпой покупателей, нагрянувших в подвал при объявлении новой большой выдачи по карточкам. Мне просто доставляло удовольствие заниматься этим делом, потому что наконец исполнилось мое желание — приносить пользу. И все окружающие чувствовали мое хорошее настроение, оно сразу заражало всех, с кем я имел дело у нас, в подвале. Я и не знал, что в жизни бывает такая радость, особенно в те дни, когда накапливалось столько дел, что не верилось — неужели я один смогу с ними справиться. Но из-за частых недомоганий нашего второго ученика, Карла, из-за частых отлучек нашего подручного, Герберта, вечно занятого любовными шашнями, прилавок в подвале стал моим капитанским мостиком, где я целиком и полностью становился единственным командиром. И господин Подлаха сумел оценить мою самостоятельность — не так часто хорошие умственные способности сочетаются с деловитостью и ловкостью, как у меня, и по душевному складу я был человеком открытым, достаточно было малейшего повода, чтобы я пришел в чудесное настроение, почувствовал себя счастливым, а тут мне не надо было ничего затаивать и я мог давать волю своей радости. Много лет я никак не осознавал, что это во мне таится, не понимал, как это важно, нужно, а тут, в подвале продовольственной лавки в Шерцхаузерфельде, все скрытое во мне вырвалось на волю, и от меня на всех окружающих словно пахнуло свежим ветром. И когда я оставался один и один нес полную ответственность за все, я был счастливейшим человеком на свете. Я становился главным, я продавал не только наши продукты и другие товары, но и бесплатно, так сказать, в придачу, уделял каждому, кто подходил ко мне, частицу своей вновь обретенной жизнерадостности. По субботам, после так называемой генеральной уборки, я нес домой то буханки белого хлеба, то картошку, сахар или муку, смотря по тому, что им было нужно, я шел по улицам, где всегда одинаково пахло стряпней и обычно преобладал запах похлебки, проходил мимо бывшей спортивной площадки, вдоль до основания прогнившей шведской стенки, до Леннерского почтового отделения, по заплесневевшим лужам, по буйной, вовек не кошенной траве, перед почтой, вдоль убогих заборов, вокруг огородов болгарских садовников, и я часто наблюдал через забор, как они работали, вспоминая, как и я целый год проработал в траунштайнском садоводстве, и думая про себя, что и та работа могла мне что-то дать, и, быть может, если бы к концу сорок четвертого года на месте садоводства «Шлехта и Вайнингера» после бомбежки не остались одни воронки, кто знает, может быть, я и стал бы садовником. Работа в саду — самое большое благо и для тела, и для души, в ней человеку легче и естественней всего топить тоску и скуку, а ведь и скука и тоска — наиболее ярко выраженные приметы человеческого существования. Болгары на малых участках добились больших урожаев зелени и фруктов, да и фрукты у них были первосортные, потому что у них усердно работали не только руки, но и голова, и никакой работы они не чурались, и все их помыслы были связаны исключительно с землей, с уходом за ней. Часто, возвращаясь домой из Шерцхаузерфельда мимо пустырей, где теперь выросли кварталы жилых домов, я заходил к болгарам на их участки, и всегда эти встречи, эти разговоры шли мне на пользу. Потом мой путь вел меня мимо приюта глухонемых, где среди высоких деревьев виднелись отличные оранжереи — там целыми днями работали глухонемые под присмотром монахинь в белых крылатых чепцах, потом я переходил железнодорожные пути. Мог я переходить на другую сторону и через туннель, но я всегда, если было время, шел более опасным путем, прямо через рельсы. По субботам, после работы, когда я уходил из Шерцхаузерфельда, у меня сразу портилось настроение, меня одолевала тоска уже в Шерцхаузерфельде, эта тишина, прерываемая только звоном посуды из окон кухонь, все время напоминала мне: вот и суббота, никто не работает, люди валяются на диванах или на кроватях, не зная, куда девать время. И эта тишина длилась до трех часов дня, пока в домах не начинались ссоры, люди выскакивали на улицу вопя и ругаясь, с искаженными от злости лицами. Субботние вечера я всегда считал для всех самым опасным временем, когда человек недоволен и собой, и другими, и всем на свете и осознает, что жизнь давно исчерпана, потеряла всякий смысл, и от этого впадает в убийственное настроение, и уже из него ему никак не выйти. Человек привыкает к своей по большей части однообразной работе, и стоит ей остановиться, как он мгновенно теряет почву под ногами, смысл жизни и впадает в болезненное уныние. Так бывает не только с отдельными людьми, такое случается со всеми. Людям кажется, что на отдыхе должны восстанавливаться силы, но на самом деле они попадают в пустоту и доходят чуть ли не до сумасшествия. Оттого по субботам у них у всех рождаются какие-то безумные планы, причем все кончается неудачей. Они начинают передвигать шкафы и комоды, столы и стулья, даже свои кровати, чистят одежду на балконах и башмаки начищают до блеска как одержимые, женщины влезают на подоконники, мужчины спускаются в подвалы и подымают хворостяными метлами тучи пыли; целые семьи пытаются наводить порядок у себя в доме, переворачивают всю мебель, пока у них самих мозги не перевернутся. А то укладываются в постель и начинают ныть, жаловаться на свои хвори, убегают, удирают в болезни, а болезни у них хронические, и вспоминают они их обычно именно в субботу, к вечеру. Врачи уже знают, что по субботам бывает больше вызовов, чем в любой другой день. Кончается работа, и начинаются недомогания, колики, всем известная субботняя мигрень, субботние боли в сердце, обмороки, истерики. Всю неделю работа или вообще всякие дела заглушают боли, заставляют забывать о болезнях, а в субботу вся хворь вдруг вылезает наружу, и человек сразу выходит из равновесия. И если тот, кто к обеду уже приходит с работы, вдруг осознает, в каком он очутился положении, — впрочем, положение у него всегда безвыходное, кем бы он ни был, каким бы ни был, где бы ни жил, — все равно он должен признаться, что он — человек несчастный, хоть и пытается казаться другим. И те счастливцы, кого субботний вечер не добивает до конца, — только исключение, подтверждающее правило. В сущности, все боятся субботы; каждый знает — впереди еще и воскресенье, а страшнее воскресенья для них ничего нет, однако за воскресеньем уже близится понедельник, рабочий день, поэтому воскресенье уже можно перетерпеть. Суббота — ужасный день, воскресенье — день страшный, но в понедельник уже становится полегче. Только по глупости или со злости можно оспаривать этот факт: в субботу надвигается гроза, в воскресенье она разражается, в понедельник наступает затишье. Человек ненавидит это свободное время, все остальное — враки, он не знает, что с собой делать в это время, и, стоит ему освободиться от дел, он начинает шарить по платяным шкафам, по комодам, пытается привести в порядок старые бумаги, ищет фотографии, документы, письма, идет в свой садик, что-то копает или бессмысленно бежит куда-то, без всякой цели, в любую погоду и называет это «прогулкой». А если у него есть дети, их тоже втягивают в то, что по крылатому выражению называется «убивать время», да их еще и дразнят, и лупят, не жалеют затрещин, пока не начнется такой кавардак, что волей-неволей приходится затихнуть. А что можно придумать ужасней, чем субботние прогулки под вечер или визиты родичей или знакомых, когда все сплетничают всласть и отношения с родными и знакомыми окончательно портятся. Чтение для этих людей — чистое самоистязание, и, конечно, нет ничего смехотворнее спорта, этого любимого ухода от человеческого одиночества. Конец недели — смертельный удар по каждому человеку в отдельности и гибель для каждой семьи. По субботам, после окончания работы, человек остается один, то есть каждый оказывается вдруг в полном, беспросветном одиночестве, потому что, по правде говоря, люди по-настоящему всю жизнь связаны только с работой, у них есть по-настоящему только работа, больше ничего. Ни один человек не может заменить другому работу, и пропадает он не тогда, когда теряет человека, пусть самого дорогого, самого нужного, самого любимого, а тогда, когда у него отнимают работу, занятие — тут он гибнет, тут он умирает. Болезни возникают там, где люди несут недостаточную нагрузку, слишком мало заняты, и жаловаться надо не на то, что человек очень занят, а на то, что у него мало дела, и стоит только наступить безделью, как пойдут болезни, и там, где людям не дают работать, их обрекают на несчастную жизнь. Иногда работа, сама по себе бессмысленная, все же имеет определенный смысл. По субботам, к вечеру, для многих сначала наступало характерное для субботнего дня спокойствие, затишье перед бурей, но вдруг люди выскакивали на улицу, то вспомнив о своих знакомых и родственниках, то подумав о природе, а иногда вспоминали, что есть еще и кино и представления в цирке. Бывало, они скрывались в своих садиках, начинали что-то копать. Но всем этим они занимались от тоски, от разочарования в жизни. Ясно, что тот, кто не убегал в работу, решив, что можно провести время просто в раздумье и спокойно преодолеть тяжелую, опасную для жизни депрессию, все-таки сразу, целиком и полностью, поддавался мыслям о своей несчастной, загубленной жизни. Именно в субботу случалось множество самоубийств, и те, кому пришлось часто бывать в суде, знают, что восемьдесят процентов убийств тоже приходилось на субботу. И оттого, что всю неделю люди держали под спудом все то, отчего они стали несчастными, недовольными, — и хотя люди все равно внутренне сосредотачивают внимание именно на всяких горестях и неприятностях, — в субботу после работы они уже не сдерживались, и все несчастья снова беспощадно занимали их мысли. Но каждый пытался именно в субботу свалить все свои горести и несчастья на других. И эти несчастья, эти обиды человек тащил после работы домой, и, хотя там его ждали те же горести и несчастья, он все равно обрушивал все свои беды на домашних. И выходит так, что субботний вечер везде, где живут и где сталкиваются люди, губителен для них всех. А в семьях, где все вынуждены тесниться, сдерживаться там совсем невозможно, непременно кто-нибудь взрывается, но и там, где человек одинок, предоставлен сам себе, он тоже оказывается в ужасающем положении. Субботний день — самый убийственный день на свете для любого человека, он это чувствует и в воскресный, тоже невыносимый день, и только в понедельник все недовольство, все горести отодвигаются до следующей субботы, до следующего приступа тоски и упадки духа. Я и сам ненавидел субботы и воскресенья, потому что в эти жуткие для меня дни меня беспощадно втягивала беспросветная жизнь моей семьи, где девять человек ютились в трех комнатушках, с утра до вечера действуя друг другу на нервы, и всегда недоедали, хотя моя мать на скудный заработок моего опекуна изо всех сил старалась хоть как-то всех накормить, да и надеть нам было нечего, помню, как у нас все члены семьи обменивались то башмаками, то куртками и штанами, чтобы подобрать одежду для того, кому надо было выйти на улицу в приличном виде, как говорится; из всей семьи только мой дед жил один, в самой крошечной комнатенке, такой маленькой, что в ней и повернуться было трудно; он сидел там, как отшельник, почти все время среди своих книг, со своими невыполнимыми планами: экономя топливо, которое почти невозможно было достать, он целые дни просиживал за письменным столом, завернувшись в старую серую попону, хотя работать, конечно, не мог. Знаю, что он запирался на целый день, и его жена, моя бабушка, ждала, не раздастся ли вдруг выстрел из пистолета, который всегда лежал у деда на столе, днем — на столе, а ночью — под подушкой, и бабушка боялась, что он застрелится, потому что дед постоянно угрожал самоубийством и ей, и всем нам, денег у него не было, сил никаких, и, голодая, как все мы, он теперь, через два года после конца войны, в то горькое страшное время, впал в полнейшую безнадежность. Мой опекун работал за грошовое жалованье на каком-то нищем предприятии. В то время для меня в комнатах вообще места не было, и моя кровать стояла в прихожей у самой входной двери. О том, чтобы выспаться как следует, и думать было нечего, и по утрам я уходил на работу совсем не выспавшись. А когда мой дядя с женой выехал от нас, моя мать ради заработка взяла еще жильца, к нам, семерым, и, как ни трудно поверить, он к тому же был скрипачом, упражнялся с утра до вечера и требовал за свои деньги ухода и питания. Дома мне было не до смеха, жили мы в полной безвыходности, в полной нищете, конец войны загнал нас в это жилье, словно для того чтобы мы испытали весь этот ужас. Но здесь не место распространяться обо всех подробностях ужасной этой жизни, да и вообще надо запретить себе касаться этой темы, и мне надо решительно отказаться от попытки написать воспоминания об этом времени, потому что он вообще неописуемо. По сравнению с тем, что было, мне теперь все кажется просто смехотворным. Должно быть, там, в подвале, я всегда был в хорошем настроении, потому что знал —
Книги, похожие на Все во мне...