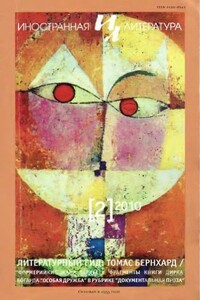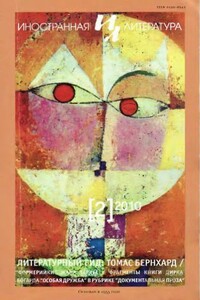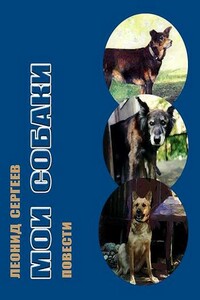Все во мне... | страница 51
в Шерцхаузерфельде, или пришел оттуда, или вообще чем-то, все равно чем, связан с этими трущобами, — значило напугать человека, вызвать к себе неприязнь, даже отвращение. Несмываемым пятном на человека ложилась всякая причастность к этому месту, нельзя было там жить, нельзя было иметь дело с его жителями, происходить оттуда, иметь хоть малейшее отношение к этим местам, и это несмываемое пятно лежало на всех жителях Шерцхаузерфельда всю жизнь, до самой смерти, часто настигавшей их в сумасшедшем доме или в тюрьме или просто приводившей на кладбище. Уже дети становились неприкасаемыми и душой и телом, оттого что родились в этих трущобах, и страдали всю жизнь, и тот, кто до сих пор не погиб от этого позорного клейма, все равно погибнет, даже если будет от него отрекаться. Шерцхаузерфельд был настоящим гетто, средоточием отчаяния и средоточием позора. Его жителей распознавали сразу, потому что во всех городах, особенно в столицах, сразу разбирают, откуда родом человек, с какой окраины, и наблюдательный гражданин при первой же встрече, с ходу, поймет — этот из чистилища, или из преддверия ада, этот — прямо из ада. Уже издали в нашем городе, где всегда отрицали существование чистилища, уж не говоря об аде, можно было узнать жителей этого чистилища, этого ада, — растерянных, оробелых, вечно мечущихся в какой-то бестолковой спешке, несчастных душой и телом, и на них клеймом лежало их происхождение. Государство, город, церковь давно отреклись, отказались от этих людей. Жители шерцхаузерфельдских трущоб были париями, их вытолкнула не только окружающая среда, не только развращенное, лживое, пошлое общество — они, жители трущоб, и сами давным-давно считали себя пропащими. И встречали этих людей как зачумленных: стоило им только попасть в город, они сразу чувствовали себя пропащими, на любой работе — униженными и обреченными, а попав под суд, знали, что судья предубежден и приговор предрешен заранее. Зальцбургские горожане всех без исключения жителей Шерцхаузерфельда считали лагерниками, и сами жители считали себя каторжниками, сами считали себя обреченными, смертниками. Здесь погибали заживо, да, в сущности, тут ничего другого, кроме медленной гибели, нельзя было и ждать, в то время как на расстоянии двух-трех километров противоестественно создавалось богатое, жадное до развлечений общество, считавшее себя единственным властителем мира. И тут, в Шерцхаузерфельде, все люди сознавали, что их попытки вырваться, уйти отсюда, пойти другим, лучшим, так называемым своим путем обречены на провал, и пример всех тех, кто попытался вырваться, найти для себя лучший путь, неизбежно доказывал, что все эти попытки кончались еще более глубокой безнадежностью, еще большей оторванностью от жизни. Те, что вдруг уходили, все равно куда, все равно для чего, на всю жизнь все равно оставались жителями трущоб и погибали на так называемой чужбине или, возвратившись, погибали еще ужаснее, чем те, кто оставался дома. Один из тех, кто ушел, пытался стать актером, странствуя по многим австрийским и немецким городам, но через много лет вернулся домой (по словам его матери)
Книги, похожие на Все во мне...