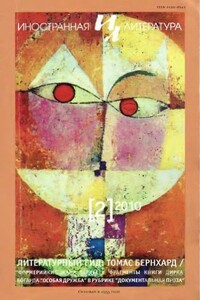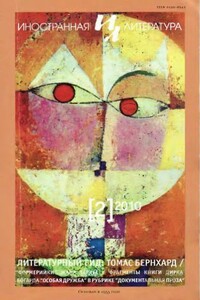Все во мне... | страница 48
и ничуть не удивительно, что уже издавна, лет сорок или пятьдесят тому назад, эти трущобы стали постоянным поставщиком материала для зальцбургских судов, неистощимым рассадником обитателей исправительных заведений и тюрем. И полиция, и суды — все, кроме городских властей, годами неослабно занимались этой окраиной, а отдел так называемого социального обеспечения ссылался на этот район, только чтобы замять, затушевать, скрыть свое беспредельное бессилие. И до сих пор — а ведь прошло уже больше тридцати лет после моей работы в Шерцхаузерфельде, — стоит мне развернуть зальцбургскую газету, как я вижу, что почти все судебные процессы связаны с этой окраиной, как и все убийства и потасовки, часто со смертельным исходом. И сейчас, через тридцать лет, мне кажется, что условия жизни там только ухудшились. Нынче там выстроили высотные дома, целые жилые кварталы — плод наших бездарных и бездушных времен, лишенных таланта, враждебных всякому таланту, — и дома стоят там, где раньше, тридцать лет назад, цвели луга; я сам проходил по этим широким лугам на работу, мимо домов призрения слепых и глухонемых, мимо Леннерской почты, по лугу, по нешироким тропкам, где все пахло природой, а теперь в этих местах уже не пахнет ни травой, ни землей, ни речными запрудами и отовсюду несет одуряющей, бесчеловечной вонью выхлопных газов. Прежде как будто город хотел отгородиться от шерцхаузерфельдских трущоб, между ними полосой проходили луга и поля, только кое-где стояли грубо сколоченные свинарники или маленькие или довольно большие лагеря беженцев, хибарки полоумных нищих и побирушек, халупы шлюх и пьяниц, которых когда-то выхаркал город. А теперь город на приличном расстоянии понастроил на лугах дешевое жилье, убийственное для этих людей, жилье для граждан, выкинутых городом, для самых нищих, бесприютных, пропащих и, разумеется, для самых болезненных, самых отчаявшихся — словом, для человеческих отбросов, и построил это жилье на таком расстоянии, чтобы никогда с тамошними жителями не сталкиваться, и тот, кто знать о них не знал и не хотел знать, так за всю жизнь и не имел никакого представления об этой окраине, напоминавшей штрафные лагеря не только потому, что все кварталы были крупно пронумерованы. Высокие ступеньки вели в узкий коридор длинного одноэтажного дома, и там с обеих сторон шли жилые помещения, которые никак нельзя было назвать квартирами; в каждой было по одной или по две комнатушки, многодетные семьи жили в двух комнатах, воду брали в общем коридоре, на весь коридор была одна общая уборная, стены выложены гераклитовыми плитками и покрыты дешевой штукатуркой. Только трехэтажные дома были кирпичными, и в них жили, так сказать, привилегированные пролетарии, и наша продуктовая лавка тоже помещалась в подвале такого трехэтажного дома. Каждый день в этих домах происходили семейные скандалы, каждый день заворачивала к какому-нибудь дому полицейская машина, подъезжала карета «скорой помощи», чтобы забрать полуживого, избитого или израненного человека, или катафалк за каким-нибудь несчастным, то ли умершим в своей жалкой постели, то ли кем-то приконченным. Почти весь день по всем улицам — единственным безымянным улицам Зальцбурга — носились ребята, они орали, шумели, благо на улицах было достаточно места, где можно было орать и шуметь, своими криками и воплями они перекрывали жуткую тишину Шерцхаузерфельда, мертвую и страшную тишину. У себя дома я пытался рассказывать о том, что видел, но как всегда, когда рассказываешь людям что-нибудь страшное, что-нибудь ужасное, бесчеловечное или немыслимо жуткое, они не верят, не желают слушать и называют, как издавна ведется, чудовищную правду ложью. Но нельзя молчать, надо непрестанно говорить им правду, ту чудовищную правду, которая тебе открылась, ее ни в коем случае нельзя замалчивать, нельзя подтасовывать. У меня есть одна задача: делиться моими наблюдениями, не обращать внимания на то, как их будут воспринимать, всегда делиться своими наблюдениями, всегда сообщать то, что мне показалось важным, рассказывать и о том, что я только что видел, или же, как теперь, вспоминать о том, что я видел тридцать лет назад, и, оглядываясь на прошлое, чувствовать, как сейчас, что многое уже вспоминается смутно, а многое — с такой немыслимой отчетливостью, словно я только вчера все это видел. Но те, кому я рассказываю, не хотят мне верить, они оберегают свой покой и часто не верят самым правдивым словам. Каждый человек старается уберечь себя от мучительной правды. А я всю жизнь был таким мучителем и таким на всю жизнь останусь, не зря так меня называли мои родные — даже моя мать, с тех пор как я себя помню, называла меня мучителем, как и мой опекун, мой брат, моя сестра, а я до сих пор продолжаю всех мучить, каждым своим вздохом, каждой написанной мною строкой. Мое существование было всегда для меня сплошной мукой. Я всем всегда мешал, всегда всех раздражал. Все, что я пишу, все, что я делаю, всем мешает, раздражает всех. Вся моя жизнь, все существование вызывает беспрерывное раздражение, беспрерывно мешает окружающим. Все оттого, что я постоянно обращаю их внимание на факты, которые им мешают, раздражают их. Есть люди, которые всех оставляют в покое, но есть и такие — и к ним принадлежу я сам, — которые всех беспокоят и раздражают. Но не такой я человек, чтобы оставлять людей в покое, да я и не хочу быть таким. Писать сегодня о Шерцхаузерфельде — значит вызывать недовольство зальцбургских властей, и я их раздражаю, вспоминая об этих трущобах. Но я вспоминаю свои ученические годы, а я их считаю самыми важными годами своей жизни и, конечно, вспоминаю о чистилище, как я про себя окрестил эти трущобы. Я не говорил себе: вот я иду в Шерцхаузерфельд, когда я шел в шерцхаузерфельдские трущобы, я говорил себе: иду в
Книги, похожие на Все во мне...