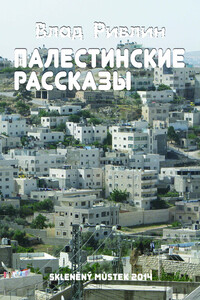Ключи от дворца | страница 25
— Да, Федор, мало-мало чего хорошего загадываешь ты своему пацаненку…
— А на что большее сейчас рассчитывать? Пусть хоть подрастает.
— Подрастает и щенок, пока хозяин на цепь не посадит.
Игнат Кузьмич пить больше не стал. Не понуждал его к этому и Серебрянский. Недавнее благодушие его и упоенная вера в свою удачливость меркли. Хотелось откровенно распахнуть душу, и распахнул было, да уж очень на скользком месте затоптался весь разговор. Выпил сам. Потом Федор перехватил взгляд Осташко, которым он, понурившись, вновь тоскливо повел по этим, так внезапно ставшими для него чужими, стенам:
— Отдохнуть потянуло, Игнат Кузьмич? Правильно. Понимаю… Где хочешь? Можешь и здесь, постелем на диване. А то иди в нашу… Там, конечно, раскардаш, но кровать одну оставили… Одеяло, подушка тоже там.
Какой ни омерзительной представлялась уже сама мысль о том, что вынужден заночевать в недавней квартира Серебрянских, однако остаться постылым гостем в своей? Это оскорбляло еще больше. Третьего же выхода не было.
— Ладно, пойду.
Федор накинул пиджак, чтобы проводить.
Вышли на крыльцо. В глухоте октябрьской ночи завязывался, креп заморозок. Казалось, заледенело все живое, если оно еще осталось здесь, в городе. Повсюду подвальная тишина. Ни единого паровозного гудка. Безмолвствовала и шахта. В черноте палисадника Игнат Кузьмич снова увидел зарябившую на земле реденькую белизну.
— Книги… — вслух подумал он.
— Книги, — охотно подтвердил Федор. — Алешка-то твой книгочей был, да толк от этого вишь какой получился. Оставить в хате никак не мог, Кузьмич. И тебе не советую. Если уж хочешь какую приберечь, то лучше снеси на чердак или в сарай.
Осташко шел не отвечая, придерживаясь руками за забор, будто боялся упасть.
Федор тоже хотел войти в дом, но Игнат Кузьмич взял у него ключ, отпер дверь и тут же захлопнул ее за собой. Чиркнул спичками, увидел в углу пустой комнаты кровать и, не раздеваясь, ничком повалился на нее.
6
Весь день, что последовал за этой анафемской, неладной, прошедшей в бредовом забытьи ночью, он провел в сокрушенных раздумьях, не показываясь на улицу. Шагал и шагал из угла в угол, а то смотрел на ту жизнь — незнакомую, чужую, враждебную, которая краешком приоткрывалась на шоссейке. В сторону парка проехал военный обоз. Лошади одна в одну — упитанные, каштанового глянца, круп у каждой шириной чуть ли не с полуторку, И хотя вслед за обозом загромыхали танки, а часом позже орудия, с глаз все еще не сгинули эти, с мохнатыми ступицами, кони — чугунной стати, выхоленные в прусских или бельгийских конюшнях и сейчас, словно после неутомительной пробежки, оказавшиеся на донецкой земле. Почтительно сторонясь лязгающего железом и клубившегося пылью шоссе, протрусил по обочине на велосипеде Федор. У этого своя забота. На багажнике привязана бельевой веревкой швейная машинка. Через полчаса снова куда-то помчался.