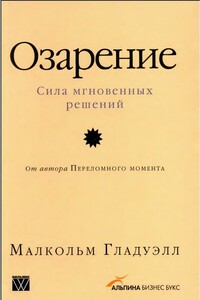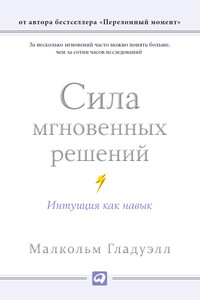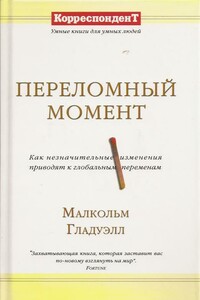Что видела собака. Про первопроходцев, гениев второго плана, поздние таланты, а также другие истории | страница 51
Так правда ли, что слова принадлежат тому, кто их написал, так же, как иные виды собственности принадлежат своим владельцам? Вообще-то нет. Вот что пишет профессор юриспруденции Стэнфордского университета Лоуренс Лессиг в своей новой книге «Свободная культура» (Free Culture)[2]:
«Называть авторское право в обыденной речи "правом собственности" не совсем верно, поскольку в данном случае это довольно странный вид собственности… Если я беру стол для пикника, стоящий у вас на заднем дворе, то понимаю, что беру, — вещь, стол для пикника, и после того как я ее забрал, этой вещи у вас не будет. Но что я забираю, если, позаимствовав хорошую идею и последовав вашему примеру, иду в магазин и покупаю там стол для пикника и ставлю его у себя на заднем дворе? Что же в таком случае я взял?
Дело не в вещественности столиков для пикника по сравнению с идеями, хотя это различие имеет важное значение. Суть в том, что обычно — за крайне редким исключением — идеи, увидевшие свет, свободны. Я ничего у вас не забираю, если копирую ваш стиль одежды — хотя могу показаться странным, если буду делать это каждый день… Напротив, как выразился Томас Джефферсон (и это особенно верно в случае подражания в одежде): "Тот, кто заимствует у меня идею, обогащает свои знания, не уменьшая моих; точно так же, как тот, кто зажигает свою свечу от моей, получает свет, не оставляя меня во тьме"».
По мнению Лессига, в вопросах разграничения личных и общественных интересов в отношении интеллектуальной собственности суды и Конгресс в большей степени склоняются в сторону личных интересов. Он пишет, к примеру, о настойчивом стремлении некоторых развивающихся стран получить доступ к недорогим аналогам западных лекарств посредством так называемого «параллельного импорта», т. е. покупки лекарств у других развивающихся стран, получивших лицензию на производство патентованных препаратов. Это решение могло бы спасти множество жизней. Соединенные Штаты воспротивились, но не потому, что параллельный импорт сказался бы на прибыли западных фармацевтических компаний (в конце концов, в развивающиеся страны они продают не так уж много патентованных лекарств). США мотивируют свой отказ тем, что такое разрешение нарушает неприкосновенность интеллектуальной собственности. «Мы как культура утратили этот баланс, — пишет Лессиг. — Сегодня в нашей культуре царит собственнический фундаментализм, несвойственный нашей традиции».
Но даже то, что Лессиг осуждает как экстремизм интеллектуальной собственности, признает наличие у нее определенных границ. Соединенные Штаты не наложили вечный запрет на доступ к дешевым аналогам американских лекарственных препаратов. Развивающимся странам надо просто подождать, пока истечет срок действия патентов. Споры, разгоревшиеся между Лессигом и ярыми защитниками интеллектуальной собственности, ведутся преимущественно о том,