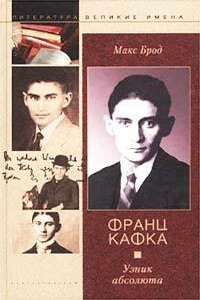Рихард Штраус. Последний романтик | страница 61
В Веймаре, куда он вернулся к началу сезона, Штраус настоял на том, что он здоров, хотя это было не так, и принялся за репетиции «Тристана». Для оркестра это было тяжелым испытанием, и, хотя репетиции начались в октябре, премьера состоялась только 17 января следующего, 1892, года. Отец Штрауса вновь поспешил с советами: «Тристан» потребует от тебя тяжелой работы и напряжения. Я буду рад, когда все закончится. Не устраивай продолжительных репетиций. Не надо утомлять людей, иначе у них наступит апатия, а это отрицательно скажется на спектакле… Я знаю это по собственному опыту… Помни, что твой оркестр небольшой и оркестрантам приходится трудиться на пределе сил. А среди них немало пожилых людей, которым трудно переносить такие нагрузки. Будь благоразумен, дорогой Рихард».[105] Каковы бы ни были недостатки еще не отшлифованной постановки, Штраус остался ею доволен. Он говорил Козиме, что день премьеры был для него самым прекрасным днем в его жизни. Духовную близость с этим произведением, безграничное восхищение им Штраус сохранил до конца своей жизни. Спектакль в Веймаре был лишь первым среди бесчисленных спектаклей, которыми он дирижировал. Много лет спустя, в 1933 году, когда дирижер Фриц Буш написал Штраусу: «Только представьте себе! Кассовые сборы от «Тристана» начинают падать», — Штраус ответил: «Даже если только один-единственный человек купит билет на «Тристана», спектакль обязан состояться. Потому что этим человеком будет последний оставшийся в живых немец».[106] Два года спустя в переписке с Йозефом Грегором, который прислал Штраусу свою книгу «История мирового театра», Штраус писал, что Грегор не сумел оценить значимости «Тристана». Для него же это произведение означает прощание с Шиллером и Гете, высочайший итог двухтысячелетнего развития театра. В старости Штраус некоторое время жил в Швейцарии, покинув измученную войной Германию, и всегда носил с собой партитуру «Тристана» как своего рода талисман.[107]
В июне того года, когда был поставлен «Тристан», Штраус заболел снова… На этот раз у него обнаружили плеврит и острый бронхит. Возможно, он не вылечился от предыдущей болезни, возможно, сказалась напряженная работа. Он побледнел, сильно исхудал и кашлял. Врачи снова опасались за его жизнь. В те времена рекомендовали только одно средство против респираторных заболеваний — уехать в теплые края. И снова на помощь пришел дядя Георг, сделав щедрый подарок в 5000 марок. Штраус уехал в Грецию, а потом — в Египет. Он провел вдали от родины восемь месяцев. Сохранился дневник, который вел все это время Штраус. Греция произвела на него такое же сильное впечатление, какое она производит на всех, кто умеет видеть и мыслить исторически: она оживила в нем чувство прекрасного. Он, так сказать, как бы лично познакомился с Зевсом и Афродитой. Генри Миллер в своей книге «Греция» писал, что влюбиться в Грецию чрезвычайно просто. «Это все равно что влюбиться в собственное отражение». Картины античной Греции найдут позже выражение в творчестве Штрауса, хотя и искаженные бледным слепком мира Фрейда. А пока Штраус восхищался, наслаждался, поражался и совершал путешествия то в голубые горы, то к голубому морю, бродил по Акрополю и музеям, общался с людьми. Короче говоря, шел по хорошо проторенной дороге всех посещающих эту страну. Но, в отличие от обычного путешественника, он как художник смотрел на все глазами своего искусства. «Талант поглощает человека, — говорил Эмерсон, — а человек, в свою очередь, поглощает все, что питает его талант». В Олимпии, любуясь Гермесом Праксителя, Штраус думал о Байрёйте! Он сравнивал Грецию, дарующую ощущение красоты, — ощущение, рожденное такими малознаменательными событиями, как состязания в беге и борьбе, — с красотой, созданной одним человеком, Вагнером, «возвысившимся над своим народом». «Здесь — великий народ, там — великий гений».