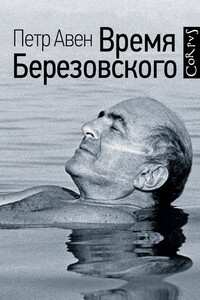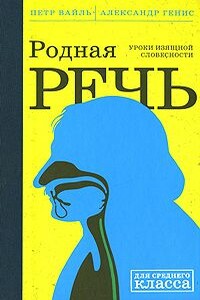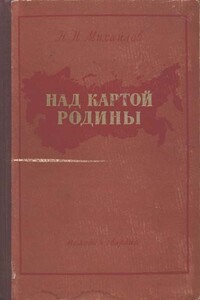Космополит. Географические фантазии | страница 5
Это не значит, что сны (как и национальные мифы) не врут, еще как! Но узнаем мы об этом, лишь проснувшись, ибо, погрузившись в сновидение, мы топим в нем свой сомневающийся картезианский разум и принимаем за чистую монету все, что показывают.
Таким образом, мы, конечно, узнаем больше о себе, чем об окружающем, но это — универсальное метафизическое препятствие. Его не обойти, меняя жанр описания. Как сказал один историк, «наша профессия подобна фотографии: она всегда обманывает». Хотя бы потому, что у снимка есть рама.
И все же я люблю историю. Она всегда разная. Одну историю можно рассказывать, как Николай Карамзин, другую — живописать, как Василий Суриков, третью изобразить, как Алексей Герман. Мою историю можно увидеть, как сон — сквозь смех, слезы или вожделение.
Явь без сна порождает неполную, как у андроида, жизнь, лишенную потусторонней глубины. География без истории вырождается в туризм: перемещение без перевоплощения, движение без трансформации.
Нет кроны без корней. Для них нужна почва. А всякое почвенничество — исторический сон о родине. Обычно — страшный. Именно поэтому я предпочитаю смотреть чужие сны. Зная о последствиях, я категорически не доверяю той почве, с которой связан кровью, языком, даже — алфавитом.
Амбивалентность моего статуса в Белграде объясняло то обстоятельство, что я оказался в интересном положении — выходцем сразу из двух стран, отношение к которым было диаметрально противоположно. Что и понятно: на площади еще дымились руины уродливого Генерального штаба, так аккуратно расколотого американскими бомбами, что в посольских особняках по соседству не вылетели стекла. Делая вид, что не замечаем разрушений, оплаченных и моими налоговыми долларами, мы дружески беседовали с хозяевами — по-английски, но о России. Вынужденный принять двусмысленность ситуации, я чувствовал себя как знакомый двуглавый орел, наследниками которого мы все тут считались.
Первым мне об этом напомнил Милорад Павич.
— В газетах пишут, — сказал я ему, набравшись наглости, — что вы — последний коммунист.
— Нет, я — последний византиец, — непонятно объяснил Павич и повел на спектакль, поставленный по его роману «Хазарский словарь».
Театр в разоренной войной и тираном столице покорял щедрой роскошью. Он являл собой многоэтажную жестяную воронку, выстроенную специально для постановки. Из подвешенного к небу прохудившегося мешка на голую арену сыпались песчинки, бесчисленные, как время. Борясь с ним, спектакль растил миф об умирающем народе. Принимаясь на неплодородной песчаной почве, миф, ветвясь, как проза Павича, оплетал консервную банку театра и убеждал его зрителей в оправданности всех жертв.