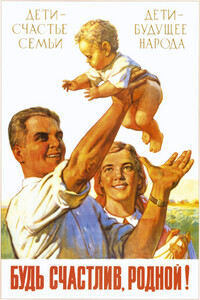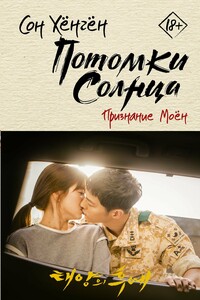Тиран | страница 71
В первые годы войны у нас были две формы внешкольного досуга: футбол и тушение зажигательных бомб песком из ведра. Мы были веселые и бесшабашные, помню наши разговоры о том, что, мол, раз бомбы падают, пусть бы одна из них упала в склад Чаеуправления на Мясницкой, а мы бы собрали разлетевшиеся конфеты. Во время одного из налетов фугас угодил в гараж НКВД в Малом Кисельном, и взрывная волна подняла в воздух балку, которая пришлась мне по спине. Отвели к врачу, перелома не обнаружили, забинтовали, и уже через некоторое время я думала, что все зажило. Лишь совсем недавно травма здорово дала о себе знать — оказывается, у меня все-таки был перелом позвоночника, с которым я проходила всю жизнь.
В войну я понемногу работала — то чертежником на военном заводе, то швеей. Мы сначала шили рукавицы для солдат, а потом нам вдруг стали спускать заказы на крепдешиновые скатерти с филейными кружевами. Мы были озадачены, но очень быстро выяснилось, что мы изготовляли их для генеральских жен. Энтузиазма, как вы понимаете, стало в разы меньше. Мне, кстати, не хватило месяца для того, чтобы стать ветераном труда и пользоваться сейчас льготами, ну да я не гонюсь за ними. Мы тогда работали за карточки, и хотя бы потому все это имело смысл.
Впрочем, работала я не только из меркантильных соображений: в свободное время регулярно отправлялась помогать в госпиталь. «Сестренка, уточку!» — кричали мне солдатики. Я не понимала, о чем речь, начинала петь в ответ сказки, мол, поправишься, поедешь в деревню, там уточки... А меня санитарка отозвала в сторонку и говорит — ты что, не знаешь, что горшок так называется?
Ближе к концу войны во мне проявились гены Флавицкого, только я стала не рисовать, а шить. Полезное, в общем-то, умение в войну. Другое дело, что у меня парадоксальным образом не получалось это делать за деньги. Сделать вещь друзьям и знакомым, доработать чужую вещь так, чтобы она заиграла, — пожалуйста, берешь заказ — ничего не получается, все из рук падает. Мама после войны пошла работать в наркомат легкой промышленности, так ее коллеги ахали от того, в каких вещах она приходила на работу. Ко мне до сих пор приходят за советами...
Тогда же примерно, благодаря одной из маминых коллег, мы хорошенько влипли. Мамина сослуживица в 1947 году решила продать нам пальтишко на меня — тогда оно стоило тысячу рублей. В какой-то момент эта женщина уговорила маму, что лучше расплатиться после денежной реформы. А у нас не было ни сберкнижки, ни счета, и мы в результате обмена стали, прямо скажем, гораздо беднее. Расплачивались за это пальтишко мы потом около двух лет. Помните, как тогда писали газеты: «с чувством глубокого удовлетворения воспринял советский народ шаги», «увеличилось благосостояние».