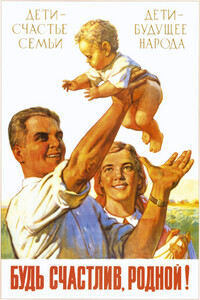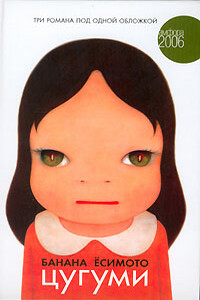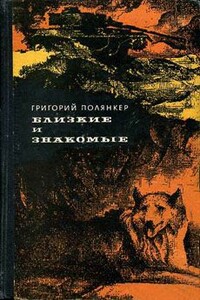Счастье | страница 49
Двухэтажный полукаменный дом № 58, построенный в 1817 году, недавно был реконструирован — от него остался только фасад. То же произошло и с особняками по другую сторону Николоямской. Зато почти без изменений сохранился доходный дом Полякова (№ 64 с. 2, построен в 1906 г.) — если не считать того, что он был надстроен еще в советское время. Рядом с ним — двухэтажный особнячок, построенный еще в XVIII веке и, несмотря на многочисленные перестройки и переделки фасада, сохранивший характерные для этого времени пропорции. Напротив него — еще один дом Эрнста Нирнзее. Правда здесь Нирнзее был уже не новичком, а известным архитектором — дом строился в 1910–1913 гг. Двухэтажный дом № 68 — еще старше, он построен в 1830-е годы. Дом № 70 на первый взгляд интереса не вызывает, выглядя совершенно обычным домом, какие массово строили на рубеже 1920-х–1930-х годов. На самом же деле он построен не с нуля — в его основе лежит двухэтажный особняк XIX века. Визуально это, правда, совершенно незаметно. Рядом — одноэтажный особнячок начала XIX века (№ 70).
Похожим образом был застроен и оставшийся отрезок Земляного Вала. На старых фотографиях и планах показаны двух- трехэтажные каменные дома с антресолями, мезонинами и лавками в нижних этажах. Доходных многоэтажек в этом квартале не было. Все эти дома были снесены при строительстве нового здания театра на Таганке.
Cчет на миллионы
Хороший фашизм и фашизм плохой
Английский социолог Стюарт Холл назвал это «дискурсивной борьбой». Идеям, концепциям, анализу противопоставляются не другие идеи, критика, аргументы, а образы, эмоции и ассоциации. Не только идеи, но даже и термины могут быть эмоционально дискредитированы и изъяты из употребления, превратившись в некий негативный знак, запретный звук.
На протяжении последнего десятилетия ХХ века именно такая «дискурсивная борьба» вывела из употребления в «серьезном обществе» социалистические идеи любого рода. Достаточно было произнести слово «национализация», «классовые интересы» или даже просто упомянуть о «социальной справедливости», как в ответ звучало слово «ГУЛАГ» и обвинение в тоталитаризме.
Любопытно, что параллельно таким же точно образом (только в обратном порядке) происходила реабилитация «национального дискурса». Разумеется, часть либеральной интеллигенции и сегодня готова объявить фашистом всякого, кто упомянет существование этнических различий или, не дай Бог, нации. Но этот тип ответа, в свою очередь, свидетельствует о маргинальной позиции говорящего в рамках нового «мейнстрима». А господствующая тенденция имеет направление противоположное. Даже в Германии, где после 1945 года любые разговоры про «национальные корни» и «исторические традиции немцев» вызывали у благопристойной публики вполне понятный дискомфорт, ситуация меняется. Нацизм сам по себе, национальная традиция — сама по себе. «Работа над дискурсом» позволила понемногу, осторожно и сравнительно безболезненно расцепить эти понятия. И в начале нынешнего века даже социал-демократы в Германии заговорили так, как говорили за сто лет до этого правые консерваторы. С другой стороны, это логично. Если любые идеи, связанные с социальными преобразованиями, защита интересов труда и обсуждение нового, коллективистского способа организации жизни равнозначны тоталитаризму, то на что опираться в поисках хоть какой-то общности? Только на голос крови, национальную традицию и общие культурные корни.