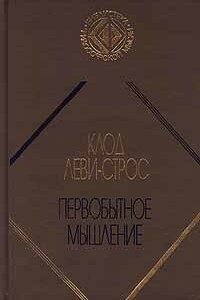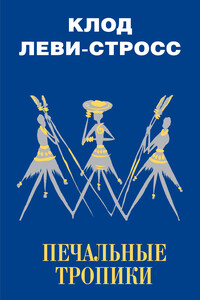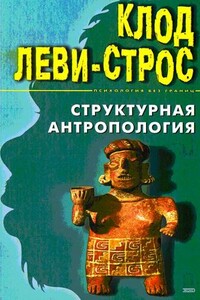Раса и история | страница 25
9. Сотрудничество культур
Требуется, наконец, рассмотреть последний аспект нашей проблемы. Игрок, подобный тому, о котором шла речь в предыдущем параграфе, держащий пари только на самые длинные ряды (каким бы способом ни замышлялись эти ряды), будет иметь все шансы разориться. Иначе будет в случае коалиции держателей пари, ставящих на такие же ряды, в их абсолютной значимости, но на нескольких рулетках и договорившихся о таком преимуществе, как передача в общее достояние результатов, благоприятных для комбинаций каждого из них. Ведь если извлекши только 21 и 22, я нуждаюсь и в числе 23 для продолжения моего ряда, то, очевидно, больше шансов, что оно выйдет на десяти столах, чем на одном.
Эта ситуация весьма сходна с ситуацией культур, достигших наиболее кумулятивных форм истории. Такие крайние формы никогда не были делом изолированных культур, но тех культур, которые сочетали, вольно или невольно, свои взаимные ходы, реализуя разнообразными средствами (миграции, заимствования, торговые обмены, войны) коалиции, модель которых мы только что изобразили. И вот мы уже прямо доходим до абсурдности декларирования того, что одна культура обладает превосходством над другой. Ибо в той мере, в какой она была бы сама по себе, культура никогда не смогла бы быть "превосходящей". Подобно игроку, действующему отъединенно, она преуспела бы лишь в малых рядах из нескольких элементов, а вероятность, что длинная серия "даст выход" в ее историю (что теоретически не исключено), настолько слаба, что потребовался бы бесконечно больший отрезок времени, чем тот, в который вписывается все развитие человечества, чтобы надеяться увидеть ее реализованной. Но, как уже упомянуто нами выше, никакая культура не одинока; она всегда находится в коалиции с другими культурами, что и позволяет ей выстраивать кумулятивные ряды. Вероятность того, что среди них появится длинный ряд, зависит, естественно, от его протяженности, а также длительности и вариабельности режима коалиции.
Из этих заметок проистекают два следствия. По ходу данного исследования мы неоднократно задавались вопросом, как же произошло, что человечество могло оставаться стационарным на протяжении девяти десятых своей истории и даже больше: первые цивилизации старше двухсот - пятисот тысяч лет, а условия жизни трансформируются лишь в течение последних десяти тысяч лет. Если наш анализ верен, то дело не в том, что палеолитический человек был менее разумен и менее одарен, чем его неолитический преемник, а просто в том, что в человеческой истории на совершение комбинации, скажем, п-ной ступени затрачивалось время длительностью она могла бы произойти гораздо раньше или гораздо позже. Этот факт не более наделен значением, чем число ударов рулетки, которого должен дождаться игрок, чтобы увидеть совершившейся свою комбинацию: она может появиться сразу, после тысячи, миллиона ударов и никогда. Но в течение всего этого времени человечество, подобно игроку, не переставало размышлять. Не всегда желая того и не всегда ясно отдавая себе в том отчет, человечество налаживало дела между культурами, бросалось в "цивилизационные операции", увенчивавшиеся переменным успехом. То близость к удаче, то компрометация приобретений своих предшественников. Огромное упрощение, как бы дозволенное нашим неведением относительно многих аспектов доисторических обществ, дает возможность проиллюстрировать это ветвящееся неопределенное продвижение, ведь ничто не поражает настолько, как эти попятные ходы - от зенита леваллуа до посредственности мустье, от великолепия ориньяка и солютре до суровости мадлен, а позднее к крайним контрастам, характерным для различных аспектов мезолита.