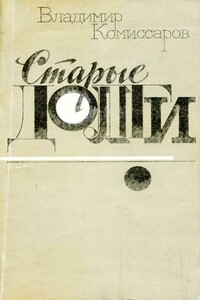Запах спелой айвы | страница 32
Поставил вещи, сел, но его все равно поташнивало. Пошел и купил в буфете бутылку корнештской минеральной воды, выпил несколько глотков, вздохнул глубоко, оглянулся и сказал сам себе: «Хватит, хватит думать о ней, довольно думать о том, что было. Если ходишь по краю пропасти, нужно, по крайней мере, уметь вовремя остановиться. Зачем самому сводить себя с ума, когда это хорошо делают другие? Нужно, наоборот, построить дамбу и перекрыть путь этому огненному шквалу, иначе он погубит».
Смешно подумать — всего несколько часов, как вышел человек из больницы, а голова уже гудит сплошным звоном, дыхание тяжелое, и он подумал, что если сейчас вот спустится в медпункт вокзала, к той самой девушке, которая почти два месяца назад вызвала «Скорую помощь» и отправила его в больницу, то она опять вызовет «Скорую». Дежурила тогда полная русская блондинка. Измерила давление, послушала легкие, сердце, позвонила в «Скорую», потом спросила:
— Вам что, в поезде стало плохо?
— Да нет, мне и дома еще было как-то не по себе…
— Зачем же вы уехали в таком состоянии?
— Да, знаете, как бывает другой раз в жизни — нужно ехать, и ты едешь…
— Да, бывает, — согласилась она, но некоторое время спустя сказала вслух, точно его уже не было рядом: — Какие эти молдаване чудаки, с каким безразличием гробят они собственное здоровье…
«Ах этот дождь в краю чужом, и эти молнии, и этот гром…»
Минут восемь-десять, примерно столько, сколько длится перемена в школе, он просидел с закрытыми глазами и сумел держать себя в руках, не думая о той своей большой боли, но потом опять все покатилось с горки. Ум — это, конечно, не только благо, это и большая беда наша. А может, виновником этого нового срыва был сам Кишиневский вокзал с его шумом, с его запахами. Сидеть на жестких скамейках радость невелика. Тогда, давно, в студенческие годы, когда он приходил сюда отсыпаться, он тоже цепенел на этих скамейках, но тогда у него было здоровое сердце, тогда все было впереди, и он говорил себе: «Ничего, пусть сейчас в этом городе для меня не найдется ватного матраца и казенной подушки под головой, но придет время, и этот город меня примет. Хочет того Кишинев или нет, но в одном из его дворов будут играть мои детишки, по его тротуарам будут стучать каблучки моей жены, и среди сотен тысяч окон засветятся когда-нибудь и мои два окошка».
Так он думал тогда, эти мысли помогали ему коротать ночи на жестких вокзальных скамейках, но теперь от тех давних иллюзий ничего не осталось, потому что Кишинев, увы, не принял их. Ни его самого, ни его жену, ни его сына. И добро бы хоть город ясно и открыто сказал ему с самого начала: «Нет, дорогой друг, ничего у нас с тобой не выйдет, и не тешь ты себя глупыми надеждами».