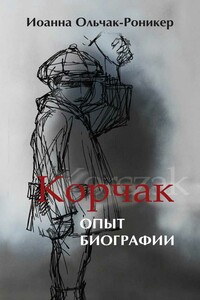В саду памяти | страница 15
Оторвавшись от стекла витрины, девочки сворачивали на Медовую и входили в огромные дворцовые ворота. В обычные дни они бежали в сторону двора и оттуда, черным ходом, по кухонной лестнице вприпрыжку и перескакивая через несколько ступенек, поднимались на второй этаж В праздничные дни — начала и конца учебного года, именин начальниц или других важных школьных событий — шли чинно, парами по лестнице, ведущей от фасада дома к дверям, на которых виднелась медная табличка с надписью «Женский пансион Леокадии и Брониславы Космовских».
Женские частные школы для девочек — неотъемлемая часть польского духовного ландшафта тех лет. В 1882 году, когда моя бабушка только начинала учиться, царская русификаторская политика в Королевстве Польском достигла своего апогея. Безупречными ее исполнителями были опорочивший себя варшавский генерал-губернатор Хурко и куратор варшавского школьного округа Апухтин, который, заняв в 1879 году свое место, громогласно заявил, что через десять лет в этой стране ни одна мать не будет говорить со своим ребенком по-польски. И делал все, чтобы выполнить данное обещание. Террор в первую очередь касался государственных гимназий. «Школа, обучающая по системе Апухтина, воспитать может либо идиота, либо героя», — язвили в Варшаве. О муках, выпавших на долю детей того времени, повествуют «Сизифов труд» С. Жеромского, «Фатальная неделя» Я. Корчака, «Воспоминания голубого мундирчика» В. Гомулицкого. Когда Генрих Сенкевич принес в «Ниву» повесть «Из дневника варшавского репетитора», цензура отказалась ее публиковать. «Придется отправить Михася в Познань. Авось, не сообразят, что к чему, и пропустят», — резонно заметил Сенкевич. И действительно повесть стала отдельными частями выходить в виде «Дневника познанского учителя».
Русские учебники прививали пренебрежительное отношение к польской истории и традициям. Всюду шныряли сыщики, выискивая дома, в которых проживают учащиеся, — кто они такие, не читает ли там молодежь запрещенные цензурой книги. Не только на школьных переменах — во всех общественных местах не разрешалось говорить по-польски. За самые незначительные проступки грозил карцер, розги, а то и исключение из гимназии. Интеллектуальный и нравственный уровень русских учителей вызывал, мягко говоря, горькие слезы. Тупые и бессмысленные требования, которые предъявлялись детям, постоянные наказания и вынюхивания не раз доводили гимназистов до самоубийства. А потому с большой неохотой детей отдавали в государственные гимназии. Обычно помещичьим девочкам брали гувернанток и домашних учителей. Средний же слой предпочитал пансионы, несмотря на то, что те были дороже государственных гимназий и их окончание не сулило поступления в университет. Желание девушки непременно получить высшее образование обычно рассматривалось как всего лишь минутная блажь, ведь высшие учебные заведения в Королевстве и так были для женщин недоступны. Частная школа, тем самым, преследовала цель воспитать умных жен и матерей в атмосфере тепла, далекой от страха и унижений. Именно такую обстановку представляла себе Юлия Горвиц, отдавая дочек в пансион Леокадии Космовской. Высокое идейное горение школы, царивший там дух сопротивления поработителям, культ независимости и романтической поэзии — все это не могло не воздействовать на воображение девочек, пробуждая в них любовь к Польше, в том числе и среди учениц-евреек. Но любовь, как известно, не всегда бывает взаимной.