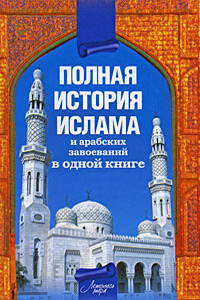Все тайны Москвы | страница 60
Судебное следствие тоже продлилось более трех лет, и в итоге Салтычиху признали «виновной без снисхождения» в тридцати восьми убийствах и пытках дворовых людей. Но приговор сенаторы выносить не стали, переложив бремя принятия решения на Екатерину II.
Для той это было также не простое решение: в течение сентября 1768 года Екатерина несколько раз переписывала приговор, и в архивах сохранилось четыре ее собственноручных наброска вердикта. Но 2 октября 1768 года Екатерина все-таки решилась, и в Сенат был направлен указ, в котором очень подробно расписывалась мера наказания. На полях этого указа, кстати, Екатерина возле слова «она» поставила «он»: императрица хотела сказать, что Салтыкова недостойна называться женщиной.
Салтыкову лишили дворянского звания, запретили пожизненно именоваться родом отца или мужа, а также указывать свое дворянское происхождение и родственные связи с иными дворянскими фамилиями. В течение часа она должна была отбыть «поносительное зрелище», в ходе которого ей предстояло простоять на эшафоте прикованной к столбу с надписью над головой «мучительница и душегубица». А затем остаток жизни Салтыкова должна была провести в подземной тюрьме без света и человеческого общения (свет дозволялся лишь во время приема пищи, а разговор — только с начальником караула или монахиней). Отправились на каторжные работы и сообщники Дарьи: священник села Троицкого Степан Петров, «гайдук» и конюх помещицы.
«Поносительное зрелище» было исполнено на Красной площади 17 октября 1768 года, а затем Дарью отвели в Ивановский монастырь. Там ей уже была приготовлена особая подземная «покаянная» камера с высотой потолков не более трех аршин (то есть 2,1 метра).
Лишь по крупным церковным праздникам Дарью выводили из-под земли к небольшому окошку в стене храма, чтобы она могла послушать литургию. Этот режим продлился 11 лет, после чего Дарья была переведена в каменную пристройку к храму с окном. Прихожане храма могли смотреть в окно и даже разговаривать с узницей. Они передавали через решетку свертки с едой, но Салтычиха в ответ лишь страшно ругалась, плевалась и выбрасывала все обратно.
В Ивановском монастыре Дарья провела тридцать три года и умерла 27 ноября 1801 года. Похоронена она на Донском кладбище в семейной могиле. После ее смерти камера была приспособлена под ризницу. Церковь, увы, до нашего времени не дожила: ее разобрали в 1861 году.
По некоторым свидетельствам, в 1779 году (то есть в возрасте около пятидесяти лет) Дарья родила ребенка от караульного солдата. Доказательств этому в архивах не найдено, но есть одно косвенное свидетельство. Артем Р., ныне инок одного из подмосковных монастырей, вспоминал, что когда в 1990-е годы Ивановский монастырь начал возрождаться, то он посещал его вместе с матерью. Гуляя по двору, шестилетний мальчик увидел «страшную растрепанную старуху, которая бежала ко мне, приговаривая: „Ты ли это, моя кровинушка, ты ли это, мой сыночек, где они тебя прячут!“» Зрелище, по воспоминаниям Артема, было для него, еще ребенка, весьма страшное, и он, с трудом увернувшись от ее грязных рук, заливаясь слезами, побежал искать свою мать, жалуясь на злобную старуху, которая, впрочем, не сделала ему ничего плохого. Женщины, присутствовавшие во дворе, сказали, что видели, как мальчик убежал, но никакой старухи они при этом не наблюдали.