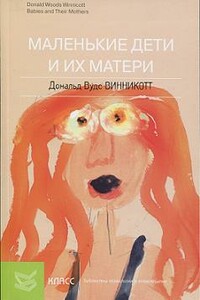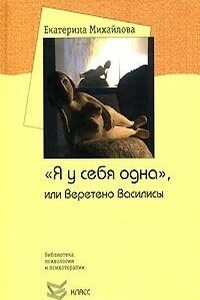Наука быть живым: Диалоги между терапевтом и пациентами в гуманистической терапии | страница 58
Если я хочу подлинной жизни, я должен осознавать процесс своего существования, тот факт, что мой центр — это мое переживание, и если я не принимаю свою жизнь всерьез, она ускользает от меня. Мое внутреннее чувство — ключ к осознанию бытия.
Приняв свою жизнь всерьез, я открываю многое в своем бытии, что прежде слишком низко оценивал, но теперь могу оценить по достоинству. Тем самым я могу обогатить свою жизнь. Так, я буду уделять внимание своим эмоциям — всем, включая и те, которые раньше старался не замечать, например, страху и гневу, своей фантазии, воображению и переживаниям, которые пытался исключить из своей жизни, но которые являются частью любой человеческой истории, — разочарованию и неудаче.
Если я допущу, что моя личность окажется привязанной к объективным вещам, я окажусь чрезвычайно уязвимым внешними обстоятельствами и случайностями. Идентичность, основанная на том, что я сделал, как меня воспринимают, что другие думают обо мне, — это идентичность, привязанная к прошлому. Она может привести к застою и повторяемости в жизни. Только подлинная процессуальная идентичность является живой в настоящий момент и способной к изменению и эволюции вместе с потоком моей жизни.
* * *
Потрясающе, как порой имена передаю важные, но нередко тонкие различия в людях. Когда я думаю о Лоренсе, я представляю себе хорошо одетого, с приятными манерами и учтивой речью, преуспевающего бизнесмена в шляпе. Когда я думаю о Ларри, передо мной возникает совершенно противоположный образ вспотевшего человека с засученными рукавами, растаптывающего ногами остатки стула и тех жизненных принципов, которые, как он понял, больше не могут поддерживать его. Эти принципы жизни оказались неадекватными, несущественными и привязывали к длинному списку достижений и признаний, накопленных Лоренсом. Он объявил, что больше не является узником, и вырвался из смертельной западни, от муравьиных укусов небытия.
Когда Ларри впервые появился в моем кабинете со своей шляпой, дорогой сигарой, благородными манерами и скрытым ужасом, до него невозможно было дотронуться. У меня было чувство: если я протяну руку и прикоснусь к его плечу или груди, то натолкнусь на невидимую оболочку из твердого пластика, а не на теплую кожу или одежду. Все в нем было так искусно сделано и продумано, что он казался недоступным. За этой плотно сомкнутой скорлупой скрывался маленький и довольно испуганный человек.
Месяцы нашей совместной работы помогли Ларри понять, каким скованным он был под своим впечатляющим и непробиваемым панцирем. И тогда он стал постепенно задумываться над возможностью жить без него, прежде казавшейся невероятной. Мало-помалу он начал избавляться от того, что когда-то казалось жизненно важным. Хотя, конечно, он не разрушил полностью к моменту окончания психотерапии, но безусловно, освободился от большей части этого сковывающего груза.