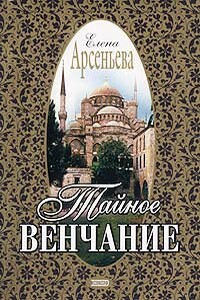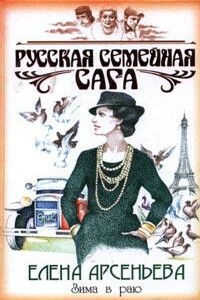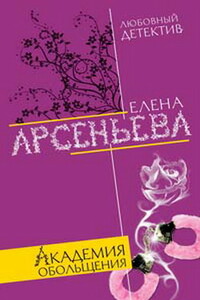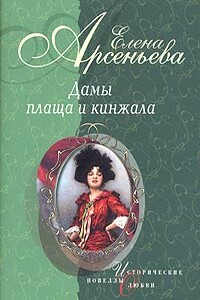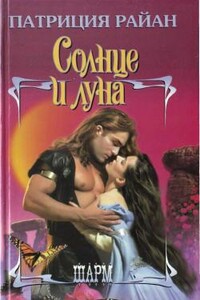Бог войны и любви | страница 13
Дознался ли Никита, с кем слюбился на золотистой песчаной постели? Нет, едва ли! И времени у него не было, и никаких причин счесть Ангелину чем-то большим, нежели дворовой или крепостной девкою, охочей до случайных барских ласк, тоже не было, и вряд ли погружен он ныне в скорбь сердечную из-за разлуки — небось даже лица ее не успел разглядеть! Так, загнет девятый или десятый палец, перечисляя в веселом гусарском кругу тех, кои с готовностью задрали юбки перед ним, и небось легче Волгу поворотить от Каспия к северу, чем заставить Никиту вспомнить хотя бы цвет глаз девы, которая так пылко и щедро любила его под мерный перекат синих волжских волн, под опьяняющие трели жаворонка, под изумленным взором юного, невинного месяца, который померк перед жарким солнцем точно так же, как померкла невинность Ангелины перед ослепительным солнцем внезапной страсти.
Это было самым нестерпимым: все время думать, что он забыл ее в тот же миг, как дал шпоры коню! Вдобавок она была не настолько глупа, чтобы не знать: от того, чем они с Никитою Аргамаковым самозабвенно занимались в жаркий полдень, рождаются дети. И хотя никаких признаков опасности Ангелина в себе пока не находила (да и не могла найти — за неделю-то!), все же угроза висела над нею, и отныне каждый ее день в Любавине был отравлен постоянным ожиданием беды — и потайной, даже от себя тщательно скрываемой надеждою, что однажды приедет она на обрыв, а там…
Нет! Это были напрасные, несбыточные, болезненные мечты, и Ангелина по-настоящему обрадовалась, когда князь и княгиня объявили ей о своем намерении как можно скорее отбыть в Нижний.
Ангелина встрепенулась, а убежав в свою светелку, несчетно положила земных поклонов Пресвятой Деве за то, что надоумила деда с бабкой уезжать, а заодно поблагодарила неведомую маркизу д'Антраге. Конечно, беда беременности могла явить себя и в Нижнем, это Ангелина прекрасно понимала, а все же Любавино сделалось ей истинно нестерпимо, хоть и раздольно было житье сельское в ладу с природой. Она торопила отъезд как могла и даже не побывала на прощанье на заветном берегу, только вдруг, уже с подножки заложенной кареты, на минутку забежала в сад, припала лицом к цветущим смородиновым ветвям, близко глянув на крошечные бледные цветочки, ощутив остроту этого запаха; растерла в пальцах зеленый листок, отмахнулась от толстого, сердитого шмеля — да и была такова.
Отправившись заутро, ехали неспешно, и вечер застал карету уже на ближних подступах к городу. Родное любавинское солнце не оставляло путешественников всю дорогу, перекатывалось по зубчатым вершинам леса, все ярче наливаясь вечерне-малиновым цветом, сгущая вокруг себя предзакатный золотистый туман и насыщая его прохладной синевою. По рощам и кустарникам разливались голоса соловьев, и Ангелине, глядевшей на солнце, чудилось, что не оно, горячее, летит от вершины к вершине, а юность, жизнь ее летит от мечты к мечте. И где-то там, впереди, отважно смеялись серые глаза… Ох, нет, Господи, помилуй!