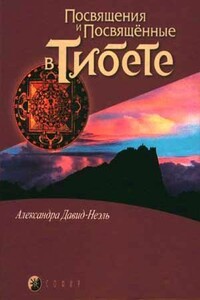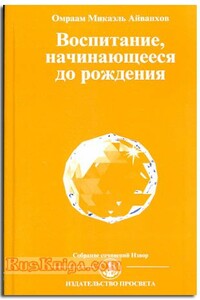Почему одни желания сбываются, а другие – нет, и как правильно захотеть, чтобы мечты сбывались | страница 35
У семилетнего Тэджи за обедом заболел живот, и он попросил поэтому отпустить его. Родители предложили ему немного полежать. Младший брат Тэджи Майк — ему три года — сказал: «У меня тоже болит живот», очевидно, рассчитывая на такое же разрешение. Отец в течение нескольких секунд смотрел на него, потом спросил: «Ты ведь не хочешь играть в эту игру, правда?» В ответ Майк рассмеялся и сказал: «Нет!» Если бы это происходило в семье, озабоченной проблемами питания и пищеварения, встревоженные родители уложили бы и Майка. Если бы он и они повторили это представление несколько раз, вполне возможно, что такая игра стала бы частью характера Майка, как часто бывает, если родители подыгрывают ребенку. Как только он начинал бы ревновать старшего брата, он тут же разыгрывал бы болезнь в надежде получить что-нибудь и для себя… Сводилось бы к следующему: (социальный уровень) «Я плохо себя чувствую» и (психологический уровень) «Вы и мне должны дать преимущество». Майк, однако, был избавлен от карьеры ипохондрика… Вот почему при формальном анализе игры всегда делается попытка раскрыть ее младенческий или детский прототип[19].
Рассуждая о функции игр, автор замечает: «Так уж устроена жизнь, что не часто нам выпадают мгновения подлинной близости, к тому же человеческая психика не выдерживает огромного напряжения, связанного с некоторыми формами близости, поэтому, по большей части, жить в обществе — значит играть в игры. Следовательно, игры необходимы и желательны, вопрос лишь в том, получает ли в результате человек достаточное вознаграждение».[20]
Проблема как раз в том, что окружение порой заставляет нас играть в довольно никчемные игры…
Например, игра «Алкоголик». Все знают ее правила. Не такие уж большие наслаждения.
Жизнь человека, попавшего в рабство мелкой игры, похожа на заевшую пластинку, из которой игла проигрывателя, раз за разом, извлекает один и тот же невнятный звуковой отрывок.
В конце книги автор делает неутешительный вывод: «…Человеческая жизнь состоит преимущественно в заполнении времени в ожидании прихода смерти или Санта-Клауса, причем у человека очень мало возможностей выбора, чем он будет заниматься во время этого долгого ожидания… Некоторым счастливчикам дано нечто, не входящее в рамки любых классификаций поведения: это и осознание настоящего, и спонтанность, и нечто более ценное, чем любые игры, — подлинная близость. Но для неподготовленного человека все эти возможности могут быть пугающими и даже опасными…»