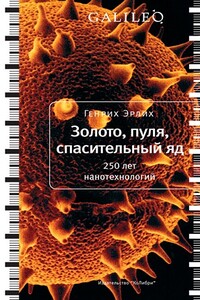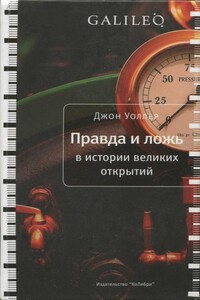Нанонауки. Невидимая революция | страница 34
Нанотехнологическое предание повествует о прозорливости Фейнмана: мол, именно его якобы пророчества воплотились в отказе от сверхминиатюрных транзисторов в пользу волокон ДНК и микромеханики. На самом деле становление этих нанотехнологий происходило в ходе непрерывного развития обычных приемов, разработанных еще в конце 1950-х годов; достаточно назвать фотолитографию — правда, в приложении к формированию компонентов микроэлектроники и микромеханики, или электронную литографию — в приложении к мезоскопической физике. Такие нанотехнологии подчас имеют дело с предметами, размеры которых измеряются десятками и сотнями нанометров и лишь допуск точности исчисляется единицами нанометров. Тем не менее именно они вышли на передний план и сумели связать свои наименования с ярлыком «бесконечно малые»… тогда как совсем иная технология осталась в тени или скорее была задвинута в тень: речь о технологии действительно нанометрического масштаба, манипулирующей отдельными атомами и позволяющей создавать устройства с размерами в считаные нанометры при допуске точности порядка 0,1 нм. Об этой технологии мы поговорим в следующей главе.
Технологическая алчность побуждает втискивать как можно больше транзисторов в как можно меньшую полупроводниковую пластиночку — в этом и состоит экономический и практический интерес миниатюризации, однако в нашей жизни миниатюризация выводит еще и на некий путь, ведущий к вопросу метафизическому: а не удастся ли однажды смастерить такую машину, которая сможет думать? И этот вопрос красной нитью проходит во многих работах сегодняшних ученых.
Когда Паскаль воплощал в неживом веществе свою вычислительную машину, его «паскалина» не думала. Когда Джеймс Уатт изобретал маленькую паровую машину для своей лаборатории, он придумал для нее управляющую программу в виде трех дырочек, пробитых в жестяной пластинке. И эта пластинка с дырочками определяла очередность, в которой открывались и закрывались вентили и клапаны его машины. Паровая машина тоже не думала, кто спорит. Когда в 1820 году Чарльз Бэббидж задумал построить первую механическую вычислительную машину, она могла выполнять множество различных действий, но, конечно, при этом ни о чем не думала. В наши дни, когда инженеры втискивают в малюсенькую коробочку 100 млн транзисторов, такая шкатулочка, очевидно, тоже не мыслит. Да и вообще возможно ли собрать из шестеренок, трубок, вакуумных ламп или транзисторов мыслящую машину? В 1957 году Джон фон Нейман объявил, что для этого потребуется 100 000 транзисторов. Миниатюризация помогла преодолеть и этот рубеж, причем уже давно, а машины все еще так и не научились думать.