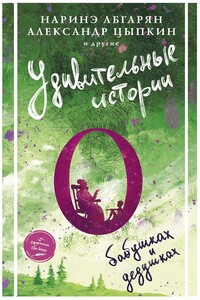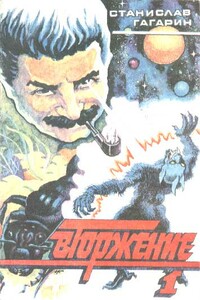Каменный пояс, 1976 | страница 66
Быстро мы их разогнали тогда, кое-кого повязали и в Семенов лабаз посадили, до «гепеу». Ровно тише стало, народ поостыл, разбираться начал, подпевал судить. Некоторые, само собой, каются — бес, дескать, попутал. А бесу одно фамилиё — кулачье да зуда церковная… Мать свою дома я, прямо скажу, отругал, первый раз за жизню отматерил. А вот Никола Савостин — тот иначе: косы благоверной своей на кулак намотал, тащит ее домой по селу и все шумит: «Я из тебя контрреволюцию, такая-сякая, выбью! Будешь мне, мол, в церкву ходить токмо раз в году, на страстную неделю!..» И смех, и грех — пра-слово.
Всех баламутов этих посажали да в крым-пески, туманны горы… а церковь тогда же и закрыли; из-за Калашникова и вообще — чересчур воду мутила. Ну, да ведь хороший родник не замутишь.
Зажили мы неплохо, заработок, знамо дело, появился; а тут и осень подошла. Долго ли, коротко — а вызывает нас тот же Кузьминов: давайте-ка, мол, ребята, за пахоту в упор браться. И посылает меня с Шурамыгиным (он со мной так до конца и ходил, Иван) сюда вот, на эту седьмую, по-вашему, клетку…
Дед Сашка неожиданно замолк, словно наткнулся на что-то; потом торопливо поднялся на колени, судорожно затянулся остатком папиросы и, наверное, прихватил бумагу мундштука: закашлялся по-старчески, надолго, хватая похолодавший ночной воздух открытым ртом и лапая себя за грудь. Я ничем не мог помочь старику, ждал.
— Вот на эту самую… клетку, — проговорил он наконец между кашлем и то ли постучал, то ли похлопал рукой по земле. И снова замолчал, растирая и гладя себе грудь темной ладонью, уставившись глазами в скрытое тьмою поле.
Заговорил он отрешенно, все думая о чем-то.
— Село тогда как встрепенулось: и тревожно было, и надежда брала — жили уже только завтрашним, — все впереди было. Еще три «Кейса» и пару «Интеров» получили, сколотили в селе целых четыре колхоза, один другого беднее, мал-мала меньше. И раскулачивали, и дом купчика, пребывшего Афанасьева, с боем брали, а всех всё одно не выселили, оставались еще… Грозились, и не тока мне, одной веревкой удавить. Бывало, к Настасье своей задами на свиданья ходил, лазил через плетни да огородами — стерегли меня; вроде бы в шутку, за девку — а голову могли свернуть да на кол, заместо лошадиной, подсолнушки в огороде стеречь… Сходились мы с ними, с молодняком кулацким, били, а все не унимались они, особливо Константин Мишанькин, бывшего барышника сынок, коновод ихний. Злой и живучий был, как хорек. Ты ево, бывало, гирькой так припечатаешь — ногами завозит; ан нет — встанет, покачается, потрется у плетня и опять в кулаки; не на лебеде — на ситном рос, стервец… Так вот и водилась та компания: самогону подопьют и таскаются проулками да к нам на вечерки каменья в окна подкидывают. В иное время их бы — разом; а тогда не до того было, и ходили они без наказу, отцовское добро поминали, гады…