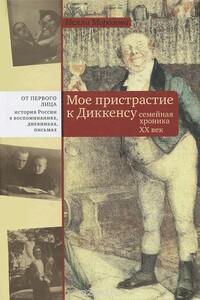Унесенные за горизонт | страница 65
― Да! Устные! А пишу я плохо!
Мы долго спорили, в глубине души я понимала, что сделала серьезную ошибку, что причинила настоящее горе... Побежала в Наркомпрос. Но мест на литфаке уже не было. А списки «иркутян» уже отослали в университет.
В начале октября наша группа «ссыльных», как, шутя, мы именовали себя, отправилась в дальнее путешествие. Помню слезы моей мамы, убивавшейся, что у меня такое плохое пальтишко; помню напутствие отца, слабым голосом попросившего вести себя разумно. Помню, как брат Алеша принес к поезду большую корзину со снедью, собранной мне в дорогу его сердобольной хозяйкой, женой дяди Миши. Арося молчал, но была в его глазах такая грусть, что мои родные сразу обо всем догадались. Я их не познакомила, но в первом же письме мама спросила, что за человек провожал меня на вокзале. Ответила: «Хороший друг»
Письма
«Мечта моя! Грызущая гранит науки в Иркутске, городе домов-ящиков, деревянных панелей, мистических фонарей, добродушных автобусов и разбитых вдребезги надежд на первостатейность.
Мечта моя! Я безмерно счастлив от твоего нежного письма. Оно развеяло туман грусти, растущий в моем сердце. Последние дни я беспрестанно читаю про себя стихи, сочиненные мной в трамвае после твоего отъезда, стихи, сочиненные в громадном душевном порыве. И потому, что они выдуманы сгоряча, они плохи, хотя и очень искренни. Они, как фотографическая пластинка, точно передают мои мысли и чувства после твоего отъезда. Вот они:
Стихи плохи. Нет размера, нет образов. Я их не отделывал. Как они у меня сложились, так и записал, придя домой».
Это не были письма в полном смысле ― в них были отрывки прозы, наброски стихов. Едва Арося касался пером бумаги, метафоры, рифмы, аллитерации захватывали его. В его письмах почти не было бытовых мелочей, но была искренность в попытке дать моментальный снимок души, переполненной любовью, измученной разлукой и одаренной талантом видеть мир не таким, каким его видят все. Иногда в один день я могла получить два письма. В первом ― стихи, во втором, написанном двумя часами позже, ― исправленный вариант. Но могло прийти и третье, с новыми исправлениями.