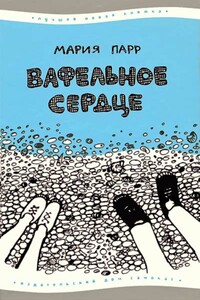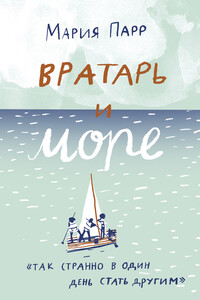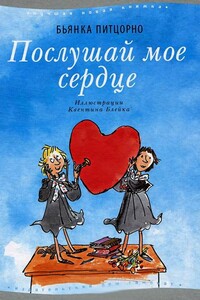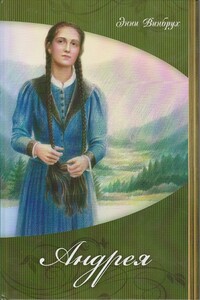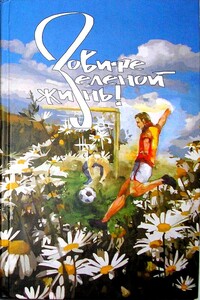Зима, когда я вырос | страница 22
— Потому, — сказал я.
— Я спросил: почему?
— Я и отвечаю: потому.
— Вот что я хотел тебе сказать, Томас…
Он замолчал, потому что должен был высморкаться.
— Ну так скажи. А я — я тебе ничего больше не буду говорить про Лишье Оверватер.
Он неторопливо спрятал носовой платок.
— Тебе нельзя поехать со мной в Пайне, — сказал он, — маленькому мальчику там делать нечего; там будут кормить невкусной английской едой, а я должен буду все дни напролет только читать и читать. И я буду расстраиваться от мысли о том, что ты ходишь вокруг и что эти немецкие мальчишки могут украсть у тебя кепку или начнут тебе рассказывать сказки о том, что Гитлер построил хорошие дороги.
— У меня нет кепки.
— Знаю.
— Я останусь тут? — спросил я. — Здесь, в этом доме?
Папа не отрывал от меня взгляда, но не видел меня, потому что думал.
— Ты так хочешь?
— Нет, я просто спросил.
— Ты переедешь к тете Фи. У тебя будет отдельная комната, та вот, боковая, — теперь тебе не придется спать у тети Фи на чердаке.
— И тебя не будет рядом, если я проснусь?
— Не будет.
— Лишье Оверватер едет летом с мамой и папой во Фрицландию[5]. Если будет ясная погода, они будут кататься на яхте. Она уже научилась плавать и обещала меня тоже научить.
— Я уезжаю ненадолго, — сказал папа. — Всего на несколько месяцев.
— Ты будешь носить солдатскую форму?
— Ты что, обалдел?
— Но ты же будешь служить вместе с солдатами?
— Нет, я буду служить в цензуре, у англичан; ну да, я буду служить, но ходить буду в своих брюках и в своем пиджаке.
— Ты ведь никогда не стрелял, да?
— Да, никогда.
— Ты об этом жалеешь?
— Что нет, то нет.
— Ты и в Пайне тоже не будешь стрелять?
— Конечно, нет — в кого же там стрелять?
— Во фрицев.
— Зачем?
— Так, ради забавы.
— Нет, Томас, — сказал папа. — Я не буду в них стрелять, они сейчас безоружные и несчастные.
— Я бы в них пострелял.
— К счастью, детям разрешается носить только игрушечные ружья. А то было бы черт знает что.
— У меня нет игрушечного ружья.
Папа засмеялся и спросил:
— Noch ein wenig? Еще немножко?
— Нет! — завопил я.
Среди ночи я проснулся в страхе. Мне снилось что-то ужасное, но когда мне снятся ужасные вещи, я их сразу забываю.
Я зажег настольную лампу.
На соседней кровати спал папа. Богатырским сном.
Одеяло укрывало его не полностью, и я видел его ботинки, полоску носков и белые ноги. Вечером ему было слишком лень раздеваться. Я удивился, что он не просыпается от собственного храпа.
Оттого что папа лежал в кровати так несуразно, а от его одежды пахло табаком, мне вспомнилась голодная зима сорок четвертого года. В середине зимы у папы было еще несколько коробок с окурками, из которых он крутил самокрутки, а вот папиросная бумага кончилась. Из тоненькой Библии, в которой было, наверное, несколько тысяч страниц, он выдергивал полупрозрачные листочки и закручивал в них табак. «Я пускаю в ход только те страницы, на которых Бог ведет себя как Гитлер и истребляет целые народы».