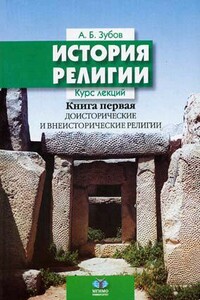Лекции по истории религий, прочитанные в Екатеринбурге | страница 46
Еще одна часть континента со своеобразной религией — Дальний Восток. Там, насколько мы можем реконструировать, издревле существовало представление о телесном воскресении умерших, — в общем, когда‑то, видимо в третьем тысячелетии, представления были не так уж отличны от наших. Но затем все изменилось. Великий кризис, который прошел по миру во втором и в начале первого тысячелетия, на Дальнем Востоке отлился в учения, связанные с именами нескольких древних китайских мудрецов. Наиболее известные из них — Конфуций (латинизированная форма от Кунь–цзы — учитель Кунь) и Лао–цзы.
Если для религий западного мира — Египта, Месопотамии — характерна и никогда не подвергалась сомнению уникальность человеческой личности и то, что человек должен спастись, преодолеть смерть, если в религии Южной Азии появилось представление о том, что человек должен в конечном счете освободиться от самого себя и от мира, то для Восточной Азии доминирующей оказывается идея мира как отпечатка абсолютного Божественного бытия. Весь мир, по этим представлениям, есть отпечаток Неба или, точнее, того, что выше Неба. В китайской традиции оно именуется Путь, или Дао. Но это не тот путь, о котором сказал Спаситель: «Аз есмь истина, путь и жизнь», то есть если ты идешь через Меня, то спасешься. Это иной путь, путь всех вещей, то, что определяет само бытие, порядок бытия, строй и суть твари — в этом смысле употребляется слово «дао».
Для китайца, который до сих пор любит использовать печать вместо подписи на деловых бумагах, образ печати и отпечатка явственно соединяется с образом Творца и творения. Творение — это отпечаток Дао, отпечаток Творца. Но, естественно, мы имеем дело с символическим образом, потому что Дао бестелесно, безвидно и отпечататься в виде гор, морей, озер не может. Дао — это определенный порядок, строй мира. Человек в этом порядке занимает свое, отнюдь не главное, место, он всего лишь один из элементов мира. Как сказал китайский мыслитель Чжуан–цзы, последователь Лао–цзы: «Человек не больше кончика волоска на лошадиной шкуре».
Китаец вовсе не поет гимн человеку, как мы привыкли видеть в любой западной традиции — «Песни о Гильгамеше», египетских гимнах, уже не говоря о книгах Ветхого Завета. Здесь же отношение к человеку лишь как к частичке. Но вот что важно: частичка эта, в отличие от мириад иных вещей, имеет автономную волю. Вот это китайцы знают не хуже всех остальных: весь мир, как отпечатан, так и остался, а человек свободен, он — особая «своевольная» частица. А коли это свободная волевая частица, то она может находиться в отпечатке мира, а может и выходить из него и ломать весь узор, и чем дальше она выходит, тем больше ломает.