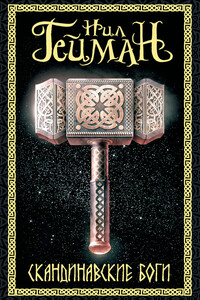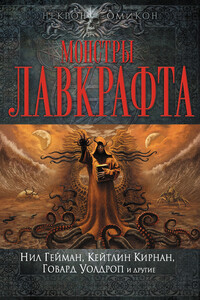Папа сожрал меня, мать извела меня. Сказки на новый лад | страница 73
А охотник, столь легко сбиваемый со следа, стоит добыче начать изливать душу, поспешно сунул крепкий свой кулак в пасть волку и извлек оттуда… весьма потрепанную девицу! Чьи щеки до того пугающе цвели, что он подумал, не лучше ли оставить ее превратностям волчих внутренностей, но она держала в руках каравай хлеба, и он выронил девицу на пол. Затем, умело и скучая, как хирург, в тысячный раз вырезающий аппендицит, он тщательно вырвал из волчьей пасти подрагивающий мясной холодец и решил, что старуху с ее длинным носом и здоровенными ушами спасти уже не представится возможным, посему плюхнул ком пакости на пол, а налипшую на руку слизь брезгливо вытер о гамбезон; но тут сквозь шерсть продрались большие пальцы ног — мозолистые, с грубыми ногтями и опухолями натоптышей, как будто внутри спал кто-то ногастый на размер больше, — и охотник вновь сунул руку внутрь с презрительной точностью невезучего фокусника, полагающего, что ему суждено нечто пограндиознее нескончаемого извлечения кроликов из цилиндров, и едва не содрал шкуру с… очень пожилой женщины, та-дамм! Не, ну вы прикиньте. Обветшалый волчий экстерьер, как он видел — много чего повидавший в последнее время, — лежал мятой горкой у ног старушки, как выкинутый на помойку протертый плащ, который уже не залатать. От всей этой матрешкиной зоологии у охотника закружилась голова, и он рухнул на стул. И тут мешанина плоти вползла на кровать, окутала собою кости, затем влезла в шкуру и вновь укрылась одеялом, а там испустила последний вздох и обмякла от окончательного помертвения. Девица с лицом, что как ржавая сковородка, прижала к себе каравай, а при виде охотника от киля до клотика покраснела пуще конца света; охотник же глянул на девицу и подумал: «Большевичка», — после чего решил, что срывать цвет с такой пламенеющей наглорожей розы как-то негоже, хоть с караваем она, хоть без, поэтому сунул он мех себе подмышку, качнул локтем и еще разок хорошенько хлебнул вина. А что же голая старая карга? Она улыбнулась парочке и склонила главу пред волком, этим пророком в парше, только что живым у нее внутри. А потом он опять ожил, репатриировался в отечество собственной недужной шкуры. И опять вернется, он таков, это уж как пить дать.
Старая-старая старуха, теперь гораздо старше, нежели по прибытии, просто мамонтово старше, чем когда с неохотой вручила дочери тот каравай хлеба, взяла в пальцы сосиску и как бы затянулась ею, а потом глянула на себя в блестящий горб столовой ложки вдовствующей особы — и залюбовалась собой, этим сданным в утиль бельмом на глазу.