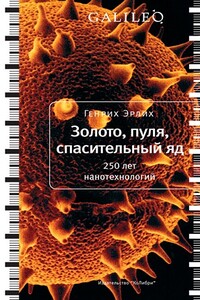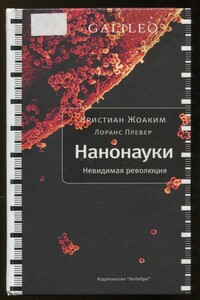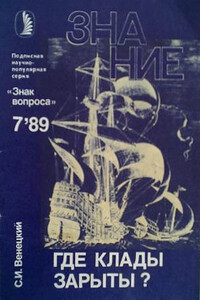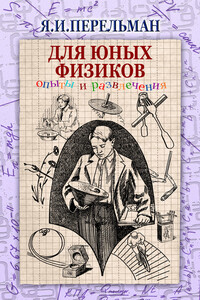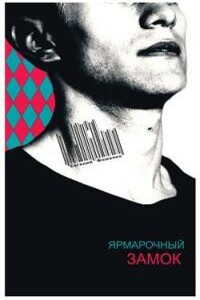Правда и ложь в истории великих открытий | страница 5
Помимо этого, новые исследования показывают нам, что научный поиск более случаен, чем мы привыкли его себе представлять. Даже благополучно завершившаяся научная программа, подтвердившая многие ранее предсказанные результаты, может иметь более запутанный сюжет, чем об этом будут повествовать спустя годы. Восстановление реальных событий, относящихся к наиболее известным случаям, позволит нам лучше понять то, что происходило на самом деле. Я считаю, что это не скажется на авторитете современной науки, поскольку лишь она позволяет нам понять окружающий нас физический мир. Однако при этом нам необходимо понять, что наука несвободна от внешних влияний и человеческого фактора, которые всегда сопутствуют любому предприятию.
Есть тут и еще один аспект. В истории науки, как и в истории вообще, создание «великих людей» существенно принижает работу множества других людей, которые не смогли прославиться. Тысячи и тысячи уже забытых исследователей сыграли свою роль в развитии науки. За редким исключением, вклад великих в науку уступает вкладу тех, о ком мы почти ничего не знаем. Великие озарения и технический гений были и у тех, кого мы продолжаем славить, и у тех, кто остался безвестным. В большинстве случаев историкам удобнее приписывать открытия и авторство ключевых идей не целым коллективам ученых, а отдельным людям, особенно если такие люди умели самоутверждаться.
В общем и целом я попытался использовать конкретные примеры из науки XIX и XX веков как доказательство своей правоты и прежде всего необходимости с определенной долей скептицизма относиться ко всем свидетельствам чьей-то гениальности. Нетрудно обнаружить, что Луи Пастер, Чарльз Дарвин, Грегор Мендель, Томас Гексли, Джозеф Листер, Джон Сноу, Александр Флеминг, Фредерик Уинслоу Тейлор, Джеймс Янг Симпсон, Чарльз Бест, Артур Эддингтон, нобелевский лауреат Роберт Милликен и авторы знаменитого «Хоторнского исследования» (Фриц Ротлисбергер и Уильям Диксон) вольно или невольно оказывались заложниками романтических схем, сильно напоминающих миф о Горацио. Во многих случаях эти люди пытались стяжать лавры в очень жесткой конкуренции, когда борьба велась не всегда по правилам и порой напоминала уличную драку. В главе I, посвященной Пастеру, Листеру, Тейлору, Милликену, Эддингтону, Бесту, Ротлисбергеру и Диксону, это особенно видно. Получается, что и этим гигантам научной мысли были не чужды человеческие слабости.
Во-вторых, мне хотелось показать, что ничего в истории нельзя вырывать из контекста. Наука — это нечто большее, чем бестелесные идеи. В каждой главе события, о которых я пишу, показаны в широком контексте, необходимом для более полного понимания всех сложностей, сопутствующих процессу научного открытия. В книге подчеркивается роль доминирующей научной парадигмы, социально-политического контекста и превратностей его величества случая, причем все это самым серьезным образом влияет на темпы и направление научного прогресса.