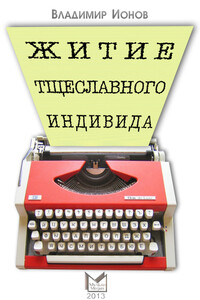Успение | страница 36
Он потянулся с лавки к столу, достал початую бутылку, горшок с мёдом, пошарил рукой поглубже, нашёл черепеньку Валасия. Захотелось выпить из неё, чтобы вспомнить покойного, в тоске душевной оплакать горькую судьбину сотоварища и свою помянуть со слезой… Налил в черепеньку водки с рюмку, примешал ложку мёду и, не крестясь, стал тянуть пенистую желтоватую медовуху, медленно, с перерывами.
Что за жизнь такая у человека? В вере ли пребывал или в безверии — один конец земному пути. Вечная жизнь будет разная? Одному гореть — не сгорать, другому — внимать ангельскому пению? В Писании так писано… А по другим книжкам — Бога нет и царя не надо. А ведь и этим писаниям Бог был свидетель, коли всякое деяние человеческое пред оком Его суть. Как бы знать! Как бы знать наперёд… Всю-то жизнь свою он, Пашка Опёнков, Ему молится, а кроме иконописного образа глазом одним ни кусочка, ни краешка ни в храме, ни в какой малой щёлочке не видел ни Господа Бога, ни Сына Его Иисуса Христа. Ни одним глазом, ни кусочка, ни краешка!..
Хмель быстро густел в нём, делал тесной и тяжёлой голову, и в тесноте этой опять стал расти непрошеный вопрос. Прибывал он быстро, рос громоздко и распирал, как роженицу, до хрустящей боли в узких костях монашеского существа. Распирал, на держался внутри, не шёл наружу, пугаясь своей богохульности. И Павел, чтобы подогнать его, чтобы скорее выпростать, опустошиться, вылил в черепеньку остатки водки, домешал мёду и снова стал пить, упираясь глазами в иконописный лик Спасителя.
Допил густую, переслащённую медовуху, отпихнул черепеньку, и боль от рождающегося из него вопроса грузно свалила его с лавки на колени, отворила существо его для выхода голоса.
— Испытай мя, Боже, узнай сердце моё, испытай помышления мои и зри, не на опасном ли пути раб Твой, и направь мя на путь вечный… Жизнь свою грешную Тебе отдал… Явись, утверди мя в вере моей… Хоть громом явись и срази до смерти, хоть пламенем — и испепели… Жизни ради Тебя лишусь по единому Слову Твоему… В цепи себя закую, по колючим терниям землю обойду, славя Имя Твое… Грешный я, Сыне, но долготерпивец ТЫ, длань Твоя всепрощающа, простри Её на мою голову, яви силу Свою! — Он задохнулся в горячности молитвы, поклонился до полу и долго студил горячий лоб об холодные половицы, напрягая слух и тело в ожидании Господнего знамения.
Но тишина была в доме, слышно только, как лампадка потрескивает, выгорая перед образом, да бухает сердце, проворачивая в теле усталую кровь. Тихо в доме. Тихо! Нету, значит, чёрному монаху Господнего благословения. А как же владыко, при пострижении читал над Павловой головой, закрытой мантией: «Забудет ли женщина грудное дитя своё, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но, если бы и она забыла, то Господь не забудет тебя…» И что же, нету иноку Господней памяти?