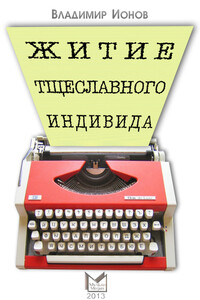Гончарный круг | страница 52
— Василий! А ты подышать не хочешь? — окликнул его Денис.
Василий чуть повременил. Раз первый заговаривает — значит, мириться хочет? Может, это и к лучшему?
— Ты не знаешь, чья это усадьба была? — спросил Денис, когда Василий подошел к обрыву.
— Нет. Какого-нибудь мироеда, а что?
— А, может, Дубровского? Красивое место.
— Ничего. Только у нас и получше Кистеневки места есть, — показал Василий свою осведомленность в области литературы.
— Например?
— А хоть тот же Стретенский Дом культуры. Видели вы его?
— Пока нет.
— Ну да!.. Еще даже не видели, а снимать в нем уже не хотите… — Энергичным движением руки Василий сорвал высокую травину с метелкой на верхушке, метнул ее, как копье, в Волгу.
Денис посмотрел на него. Хохолок на макушке Василия топорщился все так же легкомысленно и упрямо.
— Я тебя понимаю, — улыбнулся Денис. — Ты здесь работаешь, тебе есть чем гордиться, и ты хочешь, чтобы люди видели предмет твоей гордости… Давай-ка сядем. — Денис бросил на траву свою куртку, опустился на нее, оставив место и Василию. — Ты хочешь, чтобы люди видели предмет твоей гордости… Желание вполне естественное. Тебе уже двадцать пять? Больше? И уже есть чем гордиться… Черт возьми, я верю, что у колхоза есть Дом культуры, что он прекрасен, и я с удовольствием посмотрю, может быть, даже сниму его. Но сейчас дело совершенно в другом. Мне не важно, поймешь ты меня или нет. Будешь мешать — я тебя просто выгоню. Но хочу, чтобы ты понял. Почему я за то, чтобы все оставалось, как есть? Я ехал сюда на день-два. Для какой-то там зарубежной выставки нужен был небольшой ролик о мастере и его горшках. Цветной, красивый. Его безразлично, где снимать. Можно в поле среди ромашек, можно на застекленной веранде, а можно и в избе. Но лучше все-такив избе. В дяди Мишиной — тем более. Одно дело, что он привык крутить возле своей печки, другое — не менее важное для кино-лубка — там хорошая фактура стен. Так было для меня, когда ехал сюда. Тогда и твои рубахи с «петухами» могли сойти… А потом… Вот перед нами Лукич. Русский мужик. За горбом у него три войны, коллективизация, голодные и холодные времена. Но это — такая судьба. Таких мужиков много. Но вот еще что у нас — самое главное. Горшки! Ведь он делает их давным-давно. И в горе он их крутил, и в радости. И для себя, и для соседа, и для базара. И все это знали, все видели. Горшки его брали охотнее, чем сработанные другими мастерами. Почему? Так, вроде больше нравились. Но на самом-то деле оказывается, что каждый его горшок — это маленькое чудо. Вот ты говоришь, что они звенят, как саксонский фарфор, художники толкуют, что они имеют неповторимую форму и настроение. Есть горшки хуже, есть, наверно, лучше. Но таких, как у него, больше нет, потому что он единственный в своем роде. Он — истинный мастер. Он — талант. Он обладает совершенной формой. Его глина звучит, как струна. Люди увидели это, открыли. А сам он, наверно, даже и не подозревал об этом. Он крутил и крутил, не требуя ни славы, ни признания. А вот теперь все гораздо сложнее. Ему сказали, кто он и что он. Это всегда трудно, тем более, когда уже поздно. Старик уже не совсем уверен в своей руке, хотя я не знаю, признается ли он в этом самому себе. Наверно, да. А потом — наш приезд. Велик будет фильм или мал, но это уже какая-то награда ему за талант, за мастерство, за верность делу. А с другой стороны, у человека ломается привычный уклад жизни, и то, что еще недавно давалось ему запросто, было естественным, теперь будет не так — ответственнее, труднее. И вот тут надо пощадить старика. Надо как можно меньше вносить мишуры в его быт. Это нужно для самого мастера и для тех, кто увидит потом фильм. Понимаешь, важно и интересно увидеть и понять, если это только можно, естественное проявление таланта.