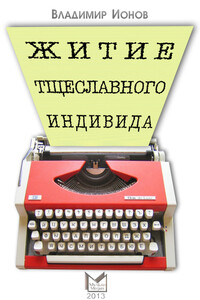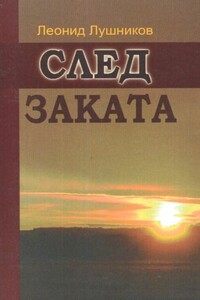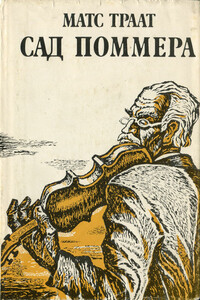…А родись счастливой | страница 41
— До какого времени? — улыбнулась Люба и, забывшись, подошла совсем близко, даже тронула его рукой, чтобы чуть отодвинулся, дал ей снять что-то с плечиков.
Степан круто развернулся к ней, хмелея взглядом. Люба скользнула в гостиную. С ним забываться нельзя.
— Стёпа, тебе жениться надо, — сказала она, когда Дурандин поуспокоился.
— Пора, — согласился он.
— Ну, так и чего же ты? Найди себе местную девушку и женись.
— У меня не местная на уме.
— А ты выкинь её из головы. В неместной всё равно ведь никакого толку. Здесь она не приживётся, а куда полетит, сама ещё не знает… Может, так и будет летать, как… «Как кто?» — подумала Люба. — Как воробей, как кукушка?!» Как птица перелётная, — сказала она. — А ты ведь — дуб, тебе на одном месте расти надо.
— Дуб? — усомнился Степан. — Я и в городе могу.
— Можешь. Но всё равно на одном месте.
— А чего летать-то? Устроился и живи знай.
— Правильно. Живи, если устроился. Но я от такой яблоньки яблочко — вот зря маман не приехала, поглядел бы ты на неё — от такой яблоньки, которой в одной ямке никогда не сиделось. — Она улыбнулась, пожала плечом, что, мол, тут поделаешь? — Не твоя я, Стёпа. Ни душой, ни характером. Если честно хочешь знать, был один момент, когда… Но ты его не заметил, а потом и я поняла, что ты — не мой. Ты только не обижайся, ладно? Давай по-хорошему расстанемся.
— Да чего? Силой в милые не въедешь. Я — дуб, ты — яблоня в самом цвету. А дерево, говорят, по себе рубят.
Говорил Степан угрюмо и голову клонил вниз. Можно было подумать, что слезу мужик прячет. Люба так и подумала, и грудь ей тронула жалость. Виноват ли, в самом деле парень, что влюбился? Однако решила, что разговор на этом лучше кончить, и пошла в спальню собирать остаток вещей в дорогу.
А Дурандин прятал не слезу — глаза. По ним бы она сразу поняла, что замыслила сейчас рыжая голова. Люба и шагов его рысьих не услышала за собой, а то, может, успела бы захлопнуть перед ним дверь. А когда почувствовала, как горячо и дрожко он дохнул ей в затылок, было уже поздно что-то делать. Только кричать. Пока рот ей не смяли шершавые пальцы, крикнула что-то с визгом, но кто ж это слышал? А потом задохнулась.
В тесноте не объятий, а медвежьей хватки, она услышала, как колотится в её грудь его неистово бьющее сердце, почувствовала, как корёжит Степана какая-то дикая сила и, повинуясь ей, он ещё крепче обхватывал и ломал её. Она обмякла, повисла в его руках, словно и впрямь попала в лапы зверя и потеряла волю вырваться из них, смирилась со всем, что суетливо и свирепо творил он с её одеждой и телом. Боль и тяжесть она ощущала отстранённо, откуда-то издалека, а явно накатывала лишь тошнота.