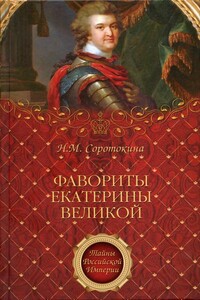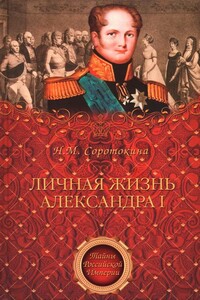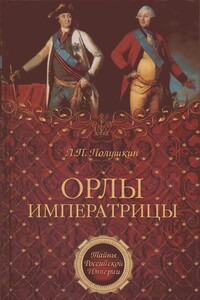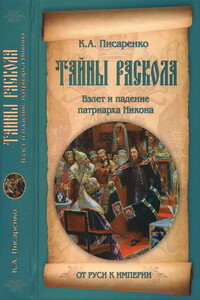Тайны дворцовых переворотов | страница 136
Сейчас историки располагают всеми необходимыми источниками, в подавляющем большинстве опубликованными, чтобы понять мотивы поведения всех центральных фигур заговора, отличить в их свидетельствах и свидетельствах иных очевидцев сообщения о подлинных фактах от невольных ошибок, а то и прямой лжи, и реконструировать истинную картину воцарения Екатерины II. Разумеется, предварять хронику поединка двух выдающихся «вождей» за лидерство должна характеристика правления преемника императрицы Елизаветы – несчастного Петра III Федоровича.
Молодой император вступил на трон в рождественский вечер, 25 декабря 1761 года. Условия договора от 24 ноября 1724 года российская сторона исполнила в точности. Никто и ничто не помешало племяннику государыни из Голштинии занять ее место. Однако миновало шесть месяцев, и Петр III утратил вначале власть, а четыре дня спустя, 3 июля, и жизнь. Почему?
В принципе переворот 28-29 июня 1762 года решал ту же задачу, что и прежние революции, потрясшие Россию после смерти Петра Великого: помог человеку, умеющему управлять, добиться соответствующего своему дарованию положения и очистить политический олимп пусть от законного, но бездарного или менее искусного соперника. Ведь и Петр II, и Анна Иоанновна, да и Анна Леопольдовна тоже вознеслись на вершину властной пирамиды не по собственному желанию и не в силу призвания, а благодаря простому стечению обстоятельств наряду с умными советами верных сторонников. В итоге император, императрица и отчасти регентша не столько четко и эффективно координировали деятельность царских министров, сколько мешали им личной некомпетентностью, ленью и капризностью трудиться на пользу Отечества с максимальной самоотдачей.
Аналогичная игра судьбы даровала российский скипетр немецкому герцогу Карлу-Петеру-Ульриху в канун нового, 1762 года. Не опасайся Елизавета Петровна того, что племянник в любой момент может составить ей конкуренцию (перейдя в православие), никто бы и не подумал торопиться с приглашением юного князя в Петербург. Сперва к нему присмотрелись бы, изучили характер, склонности, привычки и, обнаружив отсутствие у подростка управленческого таланта, преспокойно позволили бы принцу в 1751 году короноваться в Стокгольме, после чего тот окончательно потерял бы право претендовать на российский скипетр (см. 8 статью завещания Екатерины I). Но, как читатель уже знает, дщерь Петрова никогда не полагалась на русский «авось», а все тщательно просчитывала. Вследствие этого сын Анны Петровны и удостоился чести возглавить огромную империю. Честь же превратилась в тяжкую ношу, нести которую августейший родственник царицы не имел сил.